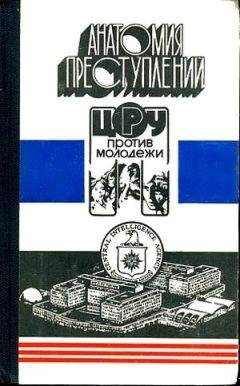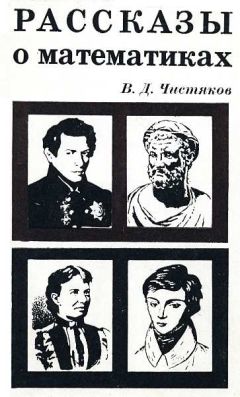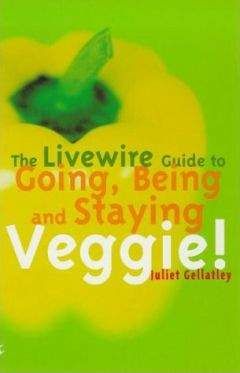Франсуаза Саган - Страницы моей жизни
С определенной точки зрения эта книга достаточно жизненна, ведь если Эдуара страсть припирает к стене, превращая его в вещь, покорную игрушку Беатрис, то и ее самое, женщину от природы жестокую и непостоянную, его безумная любовь все же будоражит, поражает настолько, что она забывает о себе, так что до конца романа остается неясным, кто палач, а кто жертва. Написано хорошо, с напряжением, местами весело, местами трогательно, но, пожалуй, особенно достоверны бурные сцены, происходящие между героями. Короче, если эта книга и не слишком удалась, то, во всяком случае, я отношу ее к числу тех произведений, писать которые было чрезвычайно приятно. В процессе работы над ней я сломала локоть, случайно выпав из окна собственного дома. И поскольку печатать могла лишь тремя пальцами правой руки, постепенно привыкла диктовать Изабель (единственному человеку, которому могла диктовать что бы то ни было) упомянутую книгу. Ведь очень трудно произносить вслух в присутствии кого-то такие, например, фразы: «Он стал целовать ее в уголки губ» или «Я и забыла, какой ты прекрасный любовник». Слава богу, безучастная и молчаливая Изабель, прикрываясь стеклами солнечных очков, не мешала мне. Но совместная работа требовала большого хладнокровия с обеих сторон, а с моей особенно, ибо всегда существовала опасность задетого самолюбия. Даже теперь меня не покидает страх, что Изабель зевнет перед моим носом, и он вытянется еще больше, хотя и без того, говорят, мой нос очень длинный.
Я не знаю, откуда появляется желание, склонность изображать одних и тех же героев в иной ситуации и с новыми партнерами. То, что имена нравятся редко или отсутствует воображение, здесь ни при чем. Два персонажа, например, Эдуар и Беатрис, были прописаны крупными (если не сказать грубыми) мазками в моей третьей книге и окружены мишурой легковесности и блеска, прикрывающей досадную нехватку страниц в книге, о которой я уже упоминала. Эти наброски поселили, так сказать, смутное сожаление в моей душе, главное – ощущение чего-то упущенного. Одним словом, герои продолжали жить во мне, и, продержав их под спудом двадцать лет, я захотела вызволить их оттуда и вновь заставить жить. Что и происходит в романе «Смятая постель»– прекрасное название, оно мне нравится все больше и больше, название, которое на этот раз я намеренно приписала Элюару. Я восхищаюсь присутствием одного и того же героя в романах Пруста и зеваю, когда те же самые персонажи появляются в книгах Жюля Ромена. Хотя прием один и тот же, но в определенном возрасте создание семьи на бумаге смешно и многое говорит об авторе.
Итак, Ван Милемы вышли из «Замка в Швеции», чтобы перейти в «Синяки на душе». Они покинули меня, увенчанные лаврами. А здесь, в «Смятой постели», кто же вновь явился мне, в свою очередь выскользнув из романа «Через месяц, через год»? Молодая пара, пережившая в нем невероятную связь: честолюбивая актриса по имени Беатрис и Эдуар, обезумевший от любви молодой человек, которого она бросила тогда ради предприимчивого и циничного директора театра Андре Жолье. «А Жолье?» – спросят меня. («Спросят» – какая ненавязчивая форма глагола, позволяющая обозначить интерес к тому, что я делаю, и как удобно прибегать к ней в случае крайней необходимости и забывать, если она окажется ненужной.) «Но что же происходит с Жолье?» Так вот, он умирает. Не из отвращения к жизни вообще, а вследствие возвышенного отношения к собственному существованию. Оно было достаточно полноценным, чтобы этот человек не допустил медленного разложения своего тела и прогрессивной деградации. Он слишком привязан к жизни и не может допустить, чтобы она свелась к отдельным жестам, диктуемым другими (врачом, медсестрами, медициной, наконец). Этот мужчина жил сообразно удовольствию и в жизни, подчиненной боли, не видит никакого смысла. Как и многие сибариты, Жолье не слишком озабочен состоянием своего тела, оно его интересует меньше всего. Он знает одно: у него достанет мужества определить судьбу, ускорить свою смерть, во всяком случае, избавиться от криков и судорог, сотрясающих тело, переставшее вдруг слушаться его после долгих лет абсолютного подчинения. Больной не допускает к своей постели никого, кроме Беатрис, и она, несмотря на свой эгоизм и нежелание сталкиваться со смертью, захвачена этой битвой между тем, кого она очень хорошо знала, и неизвестной смертью. На этот раз Беатрис – на стороне жертвы, обреченной на проигрыш, на стороне Жолье, борющегося с раком. И, вопреки своему врожденному равнодушию, Беатрис ежедневно навещает больного. А в ящичке ночного столика у Жолье дремлют десять необходимых ампул морфия.
В книге «Через месяц, через год» образ Беатрис был едва намечен, для «Смятой постели» я его практически создала заново. У Эдуара не было никаких других черт, помимо его страсти того времени. Именно эти три персонажа на протяжении целого ряда страниц несут бремя прежних страстей, самоубийства, светских интриг и театральной суеты. Такому человеку, как я, надо было запастись смелостью, чтобы затронуть сразу четыре упомянутые темы, ведь достаточно и одной для удовлетворения амбиций многих авторов. По-видимому, когда я пишу книгу, в меня вселяется странное простодушие или неувядающая молодость, простодушие, позволяющее мне начать книгу, а молодость – продолжить ее.
Вместе с Беатрис я без лишних иллюзий и с избитыми понятиями (заимствованными у кого? почему?) отправилась к Жолье. Странно, но, войдя в его спальню, я оказалась на его стороне, перед лицом Беатрис, не способной понять и справиться с мыслью о таком выборе легкой смерти. Я вдруг оказалась рядом с ним и, воспользовавшись отсутствием свидетеля, вместе с ним открыла ящик ночного столика, достала оттуда десять ампул морфия, добавила к ним одну ампулу противорвотного средства, чтобы не стошнило, и вколола все это в бедро – уже обтянутое кожей и на вид неприятное для человека, привыкшего к маникюру и кремам после бритья. Вот так мгновенно я перенеслась вместе с ним в прошлое, очень далекое прошлое, в поля, которых не было в моем детстве и не было потом, в поля странные, с шелковой травой, а позади остались лица, также мне неизвестные и не вызывающие никакого желания узнать их. «Погиб, погиб, плыву без мачт, и не видать мне плодородных островов». Короче, я окунулась в неизвестность, не похожую ни на одну из картин, всплывавших порой в моем воображении в те моменты, когда я желала смерти. Пришла Беатрис, села и, не произнося ни слова, смотрела, как я умираю. Лишь несколько слезинок скатилось, возможно, по ее щекам к уголкам сжатых прекрасных губ. Затем она ушла, за что я была ей благодарна. А Жолье уже плыл среди облаков.
Да, я определенно любила тротуар, пахнущий акацией, на той улице, где прожила пять лет, любила цветы и листья, покрывающие летом землю. Некоторые книги вначале вызывают восторг, а в конце – тоску, другие – наоборот. «Смятая постель» с начала до конца доставляла мне искреннее наслаждение. Я управляла моими героями и не бросала их, так как все в этой книге сводилось к ним, к ним одним, и к их страсти. В романе нет третьих лиц, путешествий и настоящих разлук, нет и малейшей тайны. С самого начала герои, «разъяренные драчуны», как поет Барбара, поставлены друг против друга, и такими же, лишь немного подуставшими, они остаются в конце книги. Дописывая последнюю строку, я ощутила потребность поблагодарить их за красивую борьбу, как благодарят боксеров – жестоких и холодных, – часами причинявших себе боль на наших глазах.
«Приблуда»
Прежде чем я начну говорить о «Приблуде», считаю нужным упомянуть о моем золотом мирке, той среде, которую ставили мне в вину с давних пор: «Все герои мадам Саган принадлежат к той роскошной узкой среде, которая избавляет их от любых повседневных забот…» Подобные утверждения поначалу удивляли меня, потом наводили тоску и наконец стали раздражать, пока я не перестала обращать на них внимание. Напрасно я подбирала для моих героев обычную и подходящую им профессию – всех их зачисляли в богачи, как будто безденежье не являлось скрытым героем драмы, одержавшим победу в романе «Сигнал к капитуляции», как будто в «Ангеле-хранителе», «Смятой постели» и других действуют люди, не имеющие занятий, набитые деньгами и безразличные к окружающим. Действительно, треволнения страсти были для меня важнее экономических тревог. Но кто из писателей говорил об экономических проблемах? Не Расин, не Пруст, разумеется, так же как не Робб-Грийе и не Моран. Вот я и решила идти по этому же пути. И только в романе «Приблуда» я, если хотите, изменила среду и ввела бухгалтера и хозяйку гостиницы в мою историю любви.
Я хотела бы сразу покончить с темной историей о плагиате, которую благодаря уловкам неких адвокатов, издателя и автора мне пришлось расхлебывать более года. Если рассказать коротко, то меня обвинили в плагиате, и лживость этого обвинения я не могла доказать, поскольку текста так называемого «заимствованного романа», как оказалось, найти не удалось, хотя для издателя было бы логичнее и выгоднее представить его в столь подходящий момент.