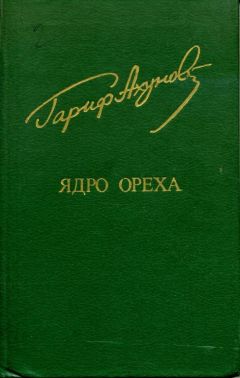Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Там не хватало щедрости.
Здесь все состоит из щедрости, которой неважно, кто.
Душевная щедрость — единственное основание любви у Белова.
Лейтмотив прозы Василия Белова— возвратившаяся любовь. Она возникает, как эхо, она дремлет в сознании, заваленная пластами новых судеб, она погребена и забыта… Но вдруг шевельнется что-то (обычно у Белова: приезжает человек в родные места). Увидит покосившуюся калитку, услышит звук отбиваемой косы — и со дна души встает… первая любовь. Эта вот прочность, мощь души, в которую если попадает что, то навек, и противостоит в беловском человеке преходящей череде обстоятельств.
Человек у Белова вырастает не в безликой толпе, не на узких городских улицах, а на огромных пустых просторах, и осуществить себя как человек он может только через общение. И вот идут девки и парни за десять километров в соседнее село, чтобы под гармонь сплясать и прокричать частушки, чтобы увидеть тех, заозерных, чтобы пообщаться. И старик Гриша зовет к себе другого старика, Тишу, на посиделки, а Тиша, его давний соперник, все медлит, все выдерживает характер, чтобы соблюсти достоинство и прийти последним, но в душе у него все переворачивается от нетерпения. Героям Белова, в общем, все привычно, — недаром этот внутренний принцип их бытия (э, все перемелется, дело привычное) в лучшей повести Белова выделился, как формула, в заглавие, — но к одиночеству они привыкнуть не могут, одиночество невыносимо, от одиночества они лезут в петлю; общение никогда не тяготит их — оно дано им в традиции.
Любопытно, что герой Белова очень охотно общается с детьми и стариками. Это общение не равное и не партнерское; старики у Белова, подобно деду Щукарю, несут обычно всякую околесь, так что герой открыто над ними подтрунивает; подтрунивает и над слабостью детей. И то, и другое легко ему.
Вспомните теперь А. Битова; его герои если общаются, то лишь с равными себе партнерами; стариков и детей они, как правило, около себя не видят, не воспринимают; вспомните тягостный разговор с отцом героя «Дачной местности» — с какой болью сыновнее чувство пробивается сквозь стену отчужденности: отец — не партнер, он слишком «другой» для партнерства, слишком старый. В маленьком сыне герой А. Битова любит именно потенциального партнера, он общается с сыном не как с ребенком, а как со взрослым, он игнорирует в сыне ребенка — и это есть его, Битова, знак высшего уважения к человеку: общаясь, он признает в человеке только равного, иначе он просто не общается.
У В. Белова же люди не равны. Старики и дети — именно слабые, прошлые или будущие, но не теперешние люди. И это не мешает общению.
Решающий пункт этики Василия Белова состоит в том, что он не знает абстрактного добра, отдельного от существования, как не знает и никакой абстрактной истины, отдельной от этой конкретной, осязаемо-ценной жизни. Мужики шумят: «…вот придет время, жить будет добро, а жить будет некому». Это поразительная фраза. «Некому» — уже исключает добро. Ибо добро — не отвлеченная сущность, к которой люди подставляются. (Помните, у А. Битова парень бежал из студентов в работяги: эти-де к «добру» ближе… Или еще, в «Саде»: полюби меня черненькую… Битов исходил из того, что добро и зло вообще предшествует людям, от этого он и мучился. Н. Суханова прямо говорила об этом же: какое добро, если нет людей?) В. Белов не знает отдельного добра и зла, он знает одно: все люди разные, значит, добро бесконечно разнообразно, и, значит, его смысл — только конкретен. «Да что я тебе, худа хочу, что ли?» — кричит Митька, сманивая Ивана Африкановича на легкие заработки в город. «Какое — худа, сам знаю, что не худа, — отвечает Иван Африканович. — Только ты и сам, может, не знаешь, где оно мое худо, где добро…»
Интересно, что в сугубо деревенской прозе Белова почти нет неприязни к городским жителям. Неприязнь едва проявляется в ранних рассказах; в зрелой прозе отношение сельских жителей к городским — сложное, но вовсе не отрицательное. Городские для Белова — чужие, другие, иные, чем живущие здесь. Но они нигде не предстают как «худшие». Сельские жители — тянутся ли они к городу, или, напротив, возвращаются в родные места (возвращение на родину, как я уже сказал, — лейтмотив у Белова, и еще лейтмотив — тоска стариков, дети и внуки которых разлетелись по городам), но, отстаивая перед городскими свое достоинство (в городах людей много, там сердечного стука не слышно, пишет Белов), сельские жители нигде, ни словом не осуждают их.
Духовный человек рождается у Белова из человека традиционного. Есть и в этом процессе художественные издержки: духовная слабость выявляет себя не в мнимом возбуждении и экзальтации (как у Битова) — у В. Белова момент слабости проявляется, как тяжеловесная медлительность, как нудная похожесть будней, как власть уклада; и лишь там, где в ранних рассказах человек у Белова остается еще функцией уклада, — его деревенский опыт противоречит опыту городскому, взятому на таком же внешне функциональном уровне; и лишь там, увидев накрашенные ногти городской женщины, герой готов усмехнуться с горечью: ему признака достаточно. Смысл нравственных поисков Белова в том, что проблематика сугубо деревенская постепенно преображается у него в проблематику человеческую, а сельский житель начинает интересовать его уже не как сельский житель только, а как человек.
Оглянитесь на нашу деревенскую прозу, и вы почувствуете, что, выходя из толщи ее опыта, Василий Белов выражает самую суть ее сегодняшних устремлений. В прошлом десятилетии деревенская проза шла у нас от факта и цифры, она возвращалась к человеку через дверь экономики и социологии, она действовала легким и подвижным жанром — очерком, она двигалась от Глеба Успенского, от Энгельгардта — она разрабатывала новые жизненные пласты, она шла, ощетинившись экономическими выкладками и социологическими законами, — пятидесятые годы дали литературе Овечкина и Троепольского, Дороша и Калинина.
Шестидесятые — дали нам В. Шукшина и В. Лихоносова, Г. Семенова и В. Белова. От человека экономического, материального — к человеку нравственному, духовному — так меняется ракурс. На смену дискуссиям о колхозном производстве приходят в связи с деревенской темой дискуссии о добре и зле, о любви и верности. Этика теснит экономику. Теснит в повестях, теснит и в статьях. Я не имею в виду, конечно, исследовать здесь общие перспективы деревенской прозы, но рискну дать некое предположительное мнение о направлении ее поиска.
Возьмем какого-нибудь дебютанта этой темы… Ну, хотя бы Ивана Зубенко, которому всего год назад в «Литературной России» давал напутствие Сергей Антонов, открыватель деревенской души сороковых годов… Зубенко — очень молод, его биография характерна (школа ФЗО в Ростове, стройки, поездки; сейчас — в Краснодаре, машинист, пишет — о деревне и о тайге). В центральной и местной прессе опубликовал немного; пока — первые вещи, и в них очень сильно ощущается непосредственное давление материала. В «Бронзовых соснах» («Дон», 1966, № 2) это косматость тайги, буйные чувства сплавщиков. Улита любит Гавриила, Степанида — Маркиана. Буйные краски и чувства сплетаются в орнамент, где диковинные имена героев так же самоценны для автора, как елани, крутояры, гольцы и другие элементы представшей ему узорно-девственной природы. Подобная романтическая трактовка таежной темы — не новость: полистайте журнал «Юность» за последние годы, и вы найдете там все это; но любопытно сравнить, что выявлялось под узором подробностей пять-шесть лет назад и что теперь у молодого рассказчика; Подспудная тема Ивана Зубенко — вовсе не экспрессивная производственная лихость, как, например, у Ю. Полухина (во «Взрыве») и у всей отошедшей уже литературной волны начала шестидесятых годов. Подспудная тема Ивана Зубенко — сосредоточенная тяжесть чувств и отношений, медленное, ушедшее внутрь вызревание страстей. Эту же защищенность сокровенного можно нащупать и в этюдах Зубенко в «Литературной России». У него дед глядит в небо и шепчет: «Хорошо… А умирать все-таки придется». «Деду семьдесят два года», — спокойно замечает автор. Возможно, этот эпизод навеян Довженко. Сам автор называет других учителей: Бунин, Платонов, Казаков. Я не могу сказать, что в рассказах Ив. Зубенко это наследие освоено вполне, но выбор учителей определенен; в устах молодого писателя, одного из тех, кто будет определять характер нашей прозы завтра, — он носит многозначительный характер. Вы можете счесть деревенскими писателями Г. Успенского, Неверова или из нынешних — Дороша. Но Бунин и Платонов — писатели явно не «деревенские», даже там, где они пишут о деревне. Речь, однако, не о них, а о нас, о смене ракурсов нашего сознания: от человека внешнего и экономического — к человеку внутреннему и духовному. В сущности, то же самое происходит в городском варианте: вспомните ранних героев Аксенова с их культом новых брюк, новых словес и новых вкусов — они были рабы этого обновленного быта, они исчерпывались этими конечными ценностями; понадобились усилия и самого Аксенова, и других писателей, чтобы пробиться сквозь этот экстерьер в глубь человека… Но этот процесс мы уже прослеживали на примере Андрея Битова.