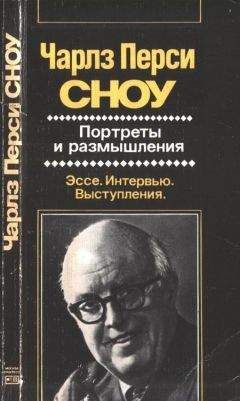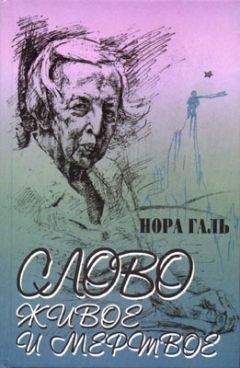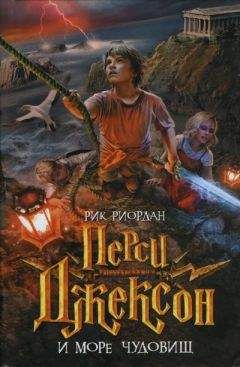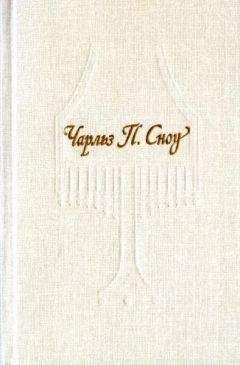Юрий Селезнев - В мире Достоевского. Слово живое и мертвое
В повести «Осень в Тамани» Лихоносов создает удивительной лирической емкости образ: душа его героя еще сомневается, еще не верит – «Что тебе она, эта сумеречная быль? Что тебе Мстислав, Ратибор, Ростислав и Глеб? Что они тебече-рез ты-ся-чу лет? Мало разве своих дней?» – но она уже отправилась в путь по той, главной дороге жизни – дороге предания, дороге исторической памяти. Отправилась не за книжкой только, но – за сердечной правдой. Он едет не туристом – чуть не паломником в Константиново, к Есенину. Заметьте – не в есенинские места, но именно к Есенину, как к живому, как к своему современнику (повесть «Люблю тебя светло»), в лермонтовскую Тамань («Осень в Тамани»), в пушкинское Тригорское («Элегия»), а собственно – едет к себе. Путь к «предкам» оказался дорогой к себе.
«Окунувшись в детство родины, я вспомнил и свое начало», – исповедуется герой Лихоносова.
Вышедшему на дорогу – не миновать, как помните, по преданию нашему, распутья: «Шел я, и стало темно. И вдруг эти три дороги!.. Я стал как вкопанный. Это подарок судьбы, подумал. Дороги уходят, чтобы никогда не сомкнуться. Мало я их видел? Но здесь… Это как в детстве песнь о вещем Олеге, Куликовская битва, картины Васнецова, потом Нестерова. Можно только почувствовать, объяснить не в силах. В двадцать пять лет, после модерна, в пору физкультурников, ревю, головоломок, вдруг проникает в меня простодушие… «Отцы ваши и деды не померли ли, но кто как жил, такову и память по себе оставил»… Ну почему мы могли забывать детство Родины?.. Не понимаю», – делится он тем, что свершилось уже в нем. И не случайно «Осень в Тамани» имеет подзаголовок: «Записки после дороги».
Историческая культура памяти, обретенная молодым героем Лихоносова, становится частью его человеческой природы, его личности. Более того, она теперь определяет его как личность. И какие уроки дарит она ему! Вот лишь один из них– он читает летопись, подчеркивает «призывы и мольбы – жить в одно сердце», он, по признанию, славил «вместе с писцами умных и добродетельных, хоронил павших – короче, читал и ловил созвучное, как ловят дорогие отзвуки в строчках влюбленные. И все жалел: поздно, поздно хватился. Да и не я один.
Наконец добрался я до гибели Василька. Случилось это поздней осенью 1097 года… Когда ослепленный князь проснулся и спросил: «Еде я?» – на нем была уже чистая сорочка… Отныне суждено ему было ощупью ходить по земле и по-былому не биться за Русь. А кто, что виною? Все то же сердце, доверчивость, когда полагаешься на кровных братьев всецело… Но братья, потеряв страх божий и стыд перед людьми, забыли о пользе отечества, помышляя лишь о себе…
Я отходил к окну, – рассказывает герой повести, – и все с горечью думал, что жалость меня давно измучила… Но что делать с собою?..». Но, может быть, главный, вынесенный нашим современником урок от первых его прикосновений живой памятью души к истории Отечества, к его заветным преданиям заключался в простой, столь самоочевидной и все же редко ощущаемой, переживаемой нами истине: «Спят печенеги и славяне, а ты живи, живи и надейся, но все-таки помни в суете, что до тебя уже были и все-все изведали» («Осень в Тамани»); «Судите нас как угодно, мы не оспорим вас уже никогда» («Элегия») – этот «голос предков» – тех «отцов и дедов», что «землю нам устрояли», – услышанный героем Лихоносова, – убежден – действительно важнейший нравственный урок всем нам, судящим их с высоты наших знаний, нашего опыта, которыми прежде всего обязаны им; поминая поминутно об ответственности, судим-то их – безответно. Они свое дело сделали, сделали для нас: в лихие эпохи оборонили Отечество и от печенегов и половцев, и от западных рыцарей; выстояли, не потеряли ни себя, ни языка, ни культуры, ни земли отцов даже и под золотоордынским игом; скольких претендентов на мировое господство осрамили навечно твердостью духа и воинской доблести; города нам какие оставили в наследство, культуру какую, литературу, историю…
О многом заставляют задуматься повести Лихоносова сегодня.
В «Осени в Тамани» есть такой, в общем-то проходной, диалог: собрались два странника – ходока по родной земле у таманского «летописца», старого казака Юхима Коростыля. Тот угощает их своим домашним вином:
«– Ладно, все, все! – остановил Степка. – Поболтали, хватит. Пью за летописца Никона и за тебя, что ли?
– Сперва за меня! – подсказал Юхим. – Никон подождет. Что он нам? Его никто не знает, а я по бригадам лекции читаю…»
В этой шутке немало и горькой, обидной нам всем правды: иного лихого беллетриста-современника зачитываем до дыр в свободное и в несвободное время, великих соотечественников, принесших вечную славу России, разве что в школе читали, да и то не для себя, для оценки. Имена бразильских футболистов всех наизусть помним, а сподвижников Дмитрия Донского, павших в борьбе за будущее Родины, тех, о ком завещали нам предки хранить память, пока Русь стоит, многих ли назовем?
Но есть в той же шутке и оборотная сторона той же обидной истины: да, нельзя понять настоящее, нельзя быть истинно современным человеком, личностью вне исторической памяти, но, с другой стороны, столь же кощунственно пренебрегать современностью, прикрываясь одной лишь заботой о прошлом. «Читаешь книги, – размышляет герой Лихоносова, уже открывший в себе историю, уже живущий ею, – и видишь, как упорно ищут то, что исчезло, пропало, зарылось. Но рядом, в свои дни, окутывается тайной чья-то судьба, на глазах превращается в тайну лишь потому, что никому до нее сейчас нет дела, а потом родится какой-то Петька и будет искать и кусать локти. Где-то по всей нашей огромной земле живут люди и о многих не знают, как они богаты опытом, судьбой, некоторые ждут, кому бы выговорить свою отстоявшуюся правду, познание своего единственного времени, своего часа на земле, но умирают – и ни строчки, ни слова от них не достанется».
Дорога предания, дорога исторической памяти, как видим, не уводит нас от современности в прошлое, напротив, как это случилось и с героем Лихоносова, эта дорога именно выводит нас через историю к верному постижению именно современности. «Буду по мере любви беречь память о своих днях, буду ловить и записывать верные слова, рассказы нынешних людей», – итожит лихоносовский герой уроки «после дороги», – а «то чувство… даром не пройдет… Кто может чувствовать родное, тому хватит. Не будем себя стыдиться. Я вот так останусь иногда один, вспомнится это лето, поле, три дороги – и счастлив бываю снова, потому что душа моя отозвалась на самое колыбельное, и, значит, не высохла она, значит, не умерла она в нас и в урочные минуты все та же русская, памятливая. А уж что в душе, то и свято…».
Герой Лихоносова, однако, – учитель или писатель, интеллигент. Ему, как говорится, положено знать и литературу, и историю, и Пушкина, и Никона, и князя Василька даже. А вот какое отношение имеет его духовный поиск ко всему поколению? А поколение, не говоря уж о народе, разное, каждый идет и находит свое, а кто так уже нашел. Вот и у Лихоносова в «Осени в Тамани» запечатлена, например, и такого рода вполне, как говорится, натуральная картина: на автобусной остановке «два пьяных в дым казака сидели рядом и чокались пустыми стаканами. «Ко мне брат приезжал, – говорил один, – мы дули-дули, а потом в саду три дня спали пьяными. Ночью проспимся, бутылку нащупаем, поболтаем – и в рот. И опять спишь. Хорошо!» Чужой мальчик ел мороженое и слушал их. «Э! Мужики! – толкал их Степка. – Казачки! Пора бы и перестать». Кто еще не сел до Тамани? – звали от автобуса».
Но и с интеллигентными героями Лихоносова порою не лучше: «На столе среди рукописей и книг… лежали хлеб, сыр, конфеты и возвышались головками бутылки… Однажды была еще яркая дама в ажурных чулках, курила, подпирая локоть ладонью, американские сигареты «Кэмел»… приезжали богатые дяди, которые давно променяли слово на деньги… играли в «передовых», в прогресс, держась в душе все той же хитрости, выгоды и пробитой дорожки, и, подавая швейцару номерок, щелкали тут же монетой, и шли по Москве, чувствуя благостное освобождение от споров, умных слов, которые им все равно никогда не понадобятся…» и т. д. И тем, на остановке, и этим, умеющим говорить ненужные им умные слова, таким – и «мужикам», и «интеллектуалам» – «весь мир… как базар», по определению одного из лихоносовских героев. Но ведь и там и там есть и другие, и их немало.
Вот, к примеру, герой повести «Люблю тебя светло» приезжает в родные места, встречается с товарищем дальнего детства – он теперь машинист, хвастает перед «столичным» земляком своею вполне обеспеченною – сам всего добился – жизнью: «Я человек такой… Видал, как живу?.. Жену видел? Видел, что было на столе? Нет, ты скажи, чего там не было? Сына видел, красавец, чуб-парень? Здоровый, пожрать хватает…» – чего бы еще, казалось? Но: «Ахочется, чтоб и для души было», – заключает тоской о сокровенном, наболевшем вроде бы всем обеспеченный и всем остальным довольный этот далеко не «столичный» и не «интеллектуальный» герой Лихоносова. «По сыну сужу, что душа просит. А что ей дать? Я тебя разве плохо встретил? Вот… у меня смородина, вот крыжовник, вот огурцы, помидоры, ранетки, все твое, кого люблю – того уважаю. Для души ты себе сам нашел. А мне вот хочется, чтоб и у сына было…»