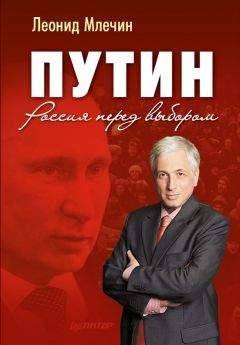Дмитрий Юрьев - Режим Путина. Постдемократия
Роль, сыгранная Михаилом Горбачевым в межеумочной ситуации 1990–1991 годов, может быть названа неудавшейся попыткой прививки от угрозы демократии.
Колоссальный и ни с чем не сравнимый в новейшей истории России кредит всеобщего доверия, обрушившийся на 54-летнего «молодого» генсека в 1985 году с первых его попыток говорить без бумажки, международная «горбомания», сравнимая по размаху разве что с любовью европейских либералов к Сталину, а главное, эмоциональное и политическое ощущение грандиозности скачка «Ставрополь – Кремль» – все это не могло не придать Горбачеву колоссальной уверенности в своих силах, средствах и правах. Реально совершенного им в политической сфере меньше, но тоже хватает, хотя это не совсем то, что приписывают Горбачеву он сам, его сторонники и противники.
Во-первых, это революция гласности, поначалу обозначенная самым «ударным» свойством генсека – его небывалым с точки зрения предшествующих двух десятилетий сходством с нормальным человеком.[19] Санкционированное горбачевским кругом право говорить банальности вслух и своими словами произвело на общественность куда более революционизирующее воздействие, нежели воспоследовавшее через какое-то время вынужденное согласие властей с существованием реальной свободы слова. Во-вторых, это еще более кардинальная революция в сфере правосознания, порожденная решением XIX партконференции КПСС о совмещении постов первых секретарей партийных комитетов и председателей Советов. Вряд ли авторы проекта, искавшие способ повысить эффективность управления и найти управу на твердокаменный слой областных наместников, до конца осознавали, на какой краеугольный камень системы покусились они, позволив хотя бы условно, хотя бы под тройным контролем поставить в зависимость от хотя бы безальтернативного голосования избирателей судьбу первых секретарей обкомов. Эти два действия Горбачева стали песчинкой, неосторожно сброшенной с вершины горы и вызвавшей лавину.
Все остальное – попытки борьбы неаккуратного альпиниста с обрушившейся лавиной – особого политического капитала Горбачеву не составило. Потому что в том, что зависело уже не от исторических закономерностей и случайностей, а от его собственных способностей и удачи, ставропольский парвеню, считавший себя вправе говорить «ты» восьмидесятилетнему Громыко (отвечавшему «вы»), проявил себя весьма традиционным, негибким и вообще посредственным партийным руководителем среднего звена.
…В начале 1991 года Горбачев и его команда осуществили последнюю попытку восстановления «доперестроечного» статус-кво, поскольку ни для чего иного не понадобились бы: призыв «на службу» будущего состава ГКЧП и выдавливание «прорабов перестройки», осуществление программы силового подавления наиболее «продвинутых» территорий, борьба с «экономическим саботажем», репрессивная (по своему общеполитическому настрою) и экономически бессодержательная «павловская реформа», отчаянные попытки вывести из-под удара Саддама Хусейна накануне «Бури в пустыне», неудачная попытка «перекрыть кислород» центральному телевидению (на которое «бросили» неадекватного и сразу же ставшего одиозным Леонида Кравченко), наконец, провозглашение референдума о сохранении СССР, антиельцинское выступление группы руководителей ВС РСФСР и ввод войск в Москву «для защиты народных депутатов» III российского депутатского съезда. Не справились. Не хватило навыков, решимости, смелости, ответственности, в конце концов. Все остальное, включая августовский путч и послепутчевый – на два месяца – возврат к «перестройке» и ее прорабам, было уже не кризисом, не попыткой номенклатурной реставрации, а следствием весенней неудачи этой попытки. И следствием выявившейся абсолютной отличительной черты «отца перестройки» – его полной безотносительности. Михаил Горбачев в этом своем качестве оказался предтечей всех столь нелюбимых им реформаторов ельцинского времени и модернизаторов путинской команды, канцелярским начетчиком, абсолютизирующим формулы и действующим – с учетом обвала перемен – по все новым и новым, но все-таки шаблонам и схемам.
Советско-интеллигентская – и международная – ностальгия, обрушившаяся на экс-президента СССР сразу же после его ухода в отставку, нынешние попытки апеллировать к последнему генсеку как к отцу русской демократии, не говоря о гиганте мысли, еще раз подтверждают выморочный характер нашего мифотворчества, способного извратить и настоящее, и прошлое, и будущее. На самом деле горбачевская перестройка осталась в истории уникальной попыткой грандиозной имитации – потемкинской деревней гигантского масштаба, которую неуклюже и бездарно пытались построить в качестве чучела общественного прогресса, чтобы предотвратить прямое участие граждан страны в управлении государством.
Но после распада СССР пост российского президента, для которого «всенародная избранность» была не просто декларацией, но и чуть ли не единственным действенным механизмом влияния на окружающую политическую среду, к осени 1991 года скачком превратился в вершину иерархии исполнительной власти огромной и независимой России, в официальный центр управления той самой бюрократией, от которой он вроде бы должен был защищать «простых людей». Таким образом, в должности и в личности первого президента России, с одной стороны, воплотились необходимость и практическая осуществимость реформирования всей системы власти, а с другой – вновь обозначился «зародыш кристаллизации» самовластия.
Это сразу же привело к резким переменам на внутриполитическом поле. Если до августа 1991 года «многоцентрие» в руководстве РСФСР (одновременное существование там председателя Верховного Совета, премьер-министра, вице-президента, государственного секретаря и т. д. в роли младших, но равных соратников президента) не вызывало никаких тревог, то почти сразу же вслед за превращением президента России в реальное первое лицо власти между всеми возможными претендентами на соразмерную с ним политическую роль началась война на уничтожение. Причем вовсе не по причине мифического «властолюбия» Ельцина и даже не только по причине неадекватности, политической недобросовестности и интриганства его противников. Мощный внутренний архетип российского самовластия стал вновь подминать под себя страну и народ.
Демократия и выборность не тождественны. Демократия состоит не в том (или не только в том), что люди выбирают, но и в том, что они выбирают. Между российской и европейской системами власти изначально пролегала пропасть, пропасть между разными проявлениями коллективной ответственности, с одной стороны, и коллективной безответственности – с другой.
Если проанализировать характер власти кого-нибудь из наиболее одиозных римских императоров и кого-нибудь из самых бессознательных коммунистических генсеков, то выясняется удивительная вещь. А именно: провозглашенный императором Калигула (или Нерон) получал от приведших его к власти совершенно неограниченные полномочия. Его назначали неограниченным диктатором с правом составления проскрипционных списков, с правом произвольного насилия по отношению к подданным, но императорская власть все равно была такой, какой ее «выстроило» общество. Императору, упрощенно говоря, «поручали» бесчинствовать, казнить и миловать, и он в той или иной форме поручение выполнял. Было общество, и была функция, для осуществления которой общество конструировало определенный механизм власти, пусть даже варварский и опасный для этого общества. Перманентно умирающий старик-генсек мог быть пустым местом, но его власть не была механизмом реализации тех или иных функций, необходимых обществу. Его власть оставалась надгосударственной, его не выбирали для исполнения обязанностей – его «призывали на царство».
Сам по себе институт персонификации власти в первом лице оказывался важнее всего: и формы «призвания» лица на первенство, и масштаба, и даже фактического существования этой личности. Первое лицо могли кликать на царство реальным или декоративным Земским собором (как это было в период от Ивана Грозного до Алексея Михайловича), назначать по произволу действующего монарха (петровский указ о престолонаследии), ставить на царство волей гвардейского полка (реализация петровского указа), приводить к власти в порядке строгой династической очередности (указ Павла I), назначать по результатам крайне узкого междусобойчика членов Политбюро (практика управления в СССР), но, так или иначе будучи призвано к власти, в дальнейшем пределы этой власти данное лицо определяло исключительно само. Причем именно так воспринимало ситуацию общество, именно к этому была готова элита.
Борис Ельцин стал первым в истории России человеком, который занял пост главы государства на основе совершенно нового подхода к основам власти в стране. Он стал первым в истории России человеком, избранным в соответствии с демократическими нормами. Он шел к власти как лидер охватившей общество главной идеи: тоталитарная эпоха должна кончиться, самовластие отменяется навсегда. Одним из первых и наиболее значимых демократических указов президента РСФСР стал указ «О департизации государственных учреждений» от 14 июля 1991 года.[20] Это был очень нужный указ, он обозначил основной вектор политической борьбы, задал основное направление демократизации общества. Указ казался чуть ли не декларацией – реальной властью на тот момент оставался «союзный центр», в руках у которого были и армия, и КГБ, и МВД, и регионы… Поразительно, но его очень быстро начали исполнять (или, по крайней мере, принимать к исполнению!) многие первые секретари обкомов. «Почуяли нового царя», – пояснил тогда один из активных борцов за демократические реформы. «Царя», призванного на царство новым образом – путем всенародного голосования…