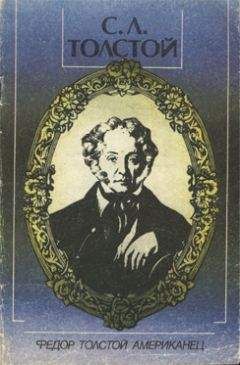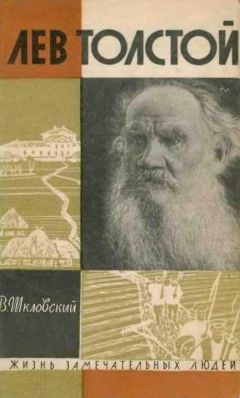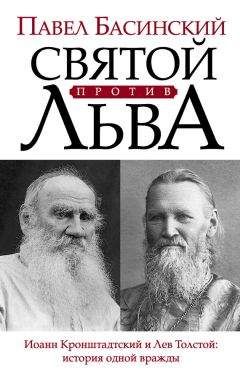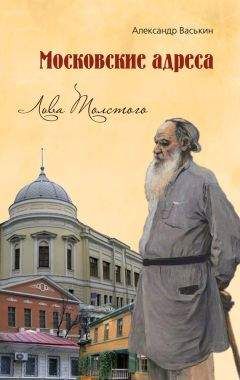Яков Лурье - После Льва Толстого
II. ТОЛСТОЙ В XX ВЕКЕ
"...Так знали мы все: не убежать. Но каждый сумасшедшим взглядом не отрывался от тайги - ведь вот она, воля, тут, рядом... В тюрьме хоть решетки, стены высокие, явственнее грань между неволей и миром вольным, а тут ни стен, ни решеток, и все же мы в плену - плену двойном: конвоя и своих же по десятку... Дождь ли, жара ли - все равно: работа продолжается. Одно лето жара достигала 40 градусов, все-таки работали, хотя ежеждневно привозили на тачке двух-трех свалившихся от солнечного удара. Однажды фельдшер не поверил, решил, что арестант притворяется, и стал колоть иголками: проверить хотел. Доктора нет: по положению таковой числится, но от нас за тридевять земель. При нас помощники его: два фельдшера. Один из них порядочный человек, даже порой явные поблажки дает, но неизменно пьян. Другой трезв, как квакер, но подл... Политических он ненавидел, уголовных под шумок уговаривал бить "политику", больных политических он не признавал: по его мнению, "политики" притворялись и, кто бы ни являлся к нему, он неизменно отвечал: - Здоров. В приемной одной и той же кисточкой смазывал сифилитические язвы и простые нарывы: это он, не поверив в солнечный удар, колол арестанта иголками... А конвойные - конвойные били арестантов: били днем, утром, ночью, били за то, что ты еврей, били за очки... Били ночью за громкий разговор в палатке, за просьбу разрешить выйти "до ветру"... Бредешь к параше, а не успел подойти, летишь лицом книзу: получил прикладом по затылку - оказывается, что конвой забавляется. - Иди, - кричит не передний конвойный, разрешение которого требуется, а боковой, передний бьет. Как-то в октябре (уже поутру поляна приморозью белела) старикашка один вышел из палатки, попросился, а конвой не пускает: - Попляши, - говорит. - А то не пущу. Старикашка шмыгнул носом и стал плясать... Политического Гуткина конвоир избил до потери сознания за отказ продать подушку за 20 копеек... В какой-то двунадесятый праздник, когда работу отменили, конвойные, заскучав, поймали собаку (пристала она к возчикам провианта) и забавы ради переломили ей лапы, а когда она завизжала, выкопали яму и зарыли ее живой. Потом плясали, играли на гармошке и пели: "Акулина-мать собиралась умирать..." И как жестоко мы ненавидели их! Для каждого из нас любой конвоир был диким зверем, которого не только не грешно убить, но даже должно. Вот помню товарища одного, который кашеварил на солдатской кухне, неделями долгими он мечтал: - Где бы мышьяку раздобыть! Голубчики, надо все усилия приложить и мышьяку достать. Как щи готовы будут, всыпать в котел, они все и подохнут, а мы бежать. Взрослый человек, не мальчик, бывалый человек, а носился с этой сумасшедшей мечтой, и знаю я: если б достал - ни на одну минуту не задумался, с величайшим наслаждением всыпал бы им мышьяку..." Это не из "Архипелага Гулага" и не из рассказов Шаламова. Это из книги Андрея Соболя, эсера, пережившего Октябрьскую революцию и покончившего самоубийством в 1926 г. А описывается здесь каторга, которую Соболь отбывал после 1906 г. на Амурской "колесухе", шоссейной дороге, соединявшей Хабаровск с Благовещенском (*).
(* Соболь А. Записки каторжанина. М.; Л., [1925]. С. 69-75. *)
Восприятие истории первых десятилетий XX века сильно изменилось за последние годы. Мы знали раньше, что царствование Николая II началось с катастрофы на коронационных торжествах в Москве, когда глупая и фарисейская затея раздача бесплатных гостинцев толпам народа - привела к гибели людей, проломивших построенные на авось мостки на Ходынском поле. Именно этому событию был посвящен рассказ Толстого. Мы помнили о расстреле 9 января 1905 года в Петербурге мирной манифестации, стремившейся только сообщить царю о своих нуждах. Мы читали о восставшем броненосце "Потемкин", прошедшем сквозь строй военных кораблей, экипажи которых не стали по нему стрелять, о лейтенанте Шмидте, согласившемся на просьбу матросов возглавить восстание на не имевшем брони и, следовательно, обреченном крейсере "Очаков". Мы знали, наконец, что всеобщая забастовка и массовые выступления по всей стране вынудили царя согласиться 17 октября 1905 г. на важные уступки освободительному движению. Знания эти не были особенно глубокими у большинства людей, не занимающихся специально историей начала XX века. Самостоятельные размышления над историей революции 1905 г. вызывали множество вопросов. Какая именно из боровшихся с самодержавием партий занимала наиболее верную и ведущую к успеху позицию? Следовало ли продолжать борьбу после манифеста 17 октября? Не было ли ошибкой декабрьское восстание в Москве, обреченное на неудачу и приведшее к усилению реакции? Однако внимание большинства авторов, обращающихся к истории начала века, за последние годы было перенесено с 1905-го на последующие годы. 1907-1913 годы перестали теперь казаться временем реакции, а напротив, были признаны годами наибольшего благополучия России, своего рода "светлым раем", утраченным в 1917 г. В 1945 г. в Бутырской тюрьме Александр Солженицын услышал от своих сокамерников речь лейтенанта Шмидта судьям в переложении Пастернака:
Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю
И снисхожденья вашего
Не жду и не желаю,
и речь эта "проняла" его, ибо "так подходила к нам" (*). Ныне Солженицын вспоминает о Шмидте (в главке о Колчаке в "Красном колесе") как о плохом офицере, который "служил нехотя, спал в дневное время, небрежен в одежде", а по слухам, даже пытался после восстания "бежать в наемном ялике" (**). (* Солженицын А. Архипелаг ГУлаг. YMCA-PRESS, 1973. Т. I-II. Р. 226. *) (** Солженицын Александр. Собр. соч. Вермонт; Париж, 1991. Т. XX: Красное колесо. Узел IV. С. 229. **) Зато в честь последнего монарха устраиваются музейные выставки, украшенные императорским штандартом, н их устроители не затрудняются экспонировать тут изображение торжеств на Ходынском поле, даже не подозревая или не желая думать о тех ассоциациях, которые эта гравюра вызывает. Как же воспринимал события тех лет Лев Толстой?
Толстой и революция 1905 года
После 1881 г., как писал Толстой Бирюкову, его "отрицательное отношение к государству и власти", возникшее при писании "Войны и мира", сложилось окончательно. Цареубийство 1 марта 1881 г. Лев Толстой решительно осудил, но казнь революционеров, которую одобряли его прежние друзья, казалась ему также несовместимой с христианским учением. Через два месяца после 1 марта Толстой записал в дневнике: "Самарин с улыбочкой: надо их вешать. Хотел смолчать и не знать его, хотел вытолкать в шею. Высказал. Государств. "Да мне все равно, в какие игрушки вы играете, только бы из-за игры зла не было"" (43, 36). Смысл разговора ясен: в оправдание казни первомартовцев П. Ф. Самарин ссылается на интересы государства: Лев Толстой отвергал их, как "игрушки", из-за которых совершается величайшее зло - убийство. Толстой обратился с письмом к Александру III, объясняя, что осужденные - не "бандиты", не "шайка", а "люди, которые ненавидят существующий порядок вещей", и что с ними надо "бороться духовно". Он просил помиловать осужденных (68, 51-52). Ходатайство это, как мы знаем, последствий не имело. Так же безуспешны были обращения Толстого к Николаю II с призывом согласиться на реформы государственной власти. Неудача этих попыток лишний раз подтверждала мнение писателя о носителях власти как о фигурах, способных делать лишь то, "что им велят делать предание н окружающие" (51, 54). Взгляд его на царскую власть - от "изверга" Петра I до "жалкого, слабого, глупого" Николая II (36, 448-463; 39, 60, 91) - был суровым и беспощадным. Прежний вопрос об относительности прав на власть "Екатерины или Пугачева" приобрел теперь иной смысл: сомнения в том, следует ли повиноваться власти, если "вся история есть история борьбы одной власти против другой, как в России, так и во всех других государствах" (39, 91). К началу XX века Толстой не только распрощался с теми иллюзиями относительно царской власти, которые у него были до написания "Войны и мира". Он усомнился и в благотворности той любви к стране и государству, которая воспринималась им во время написания романа как естественное, хотя и не требующее открытого выражения чувство. В 1893-1894 гг., в связи с заключением русско-французского договора (прообраза будущей Антанты), Толстой написал статью "Христианство и патриотизм" (первоначальное название - "Тулон"). В 1896 г. была написана статья "Патриотизм или мир?", в 1900 г. - "Патриотизм и правительство". Идея всех трех статей - безнравственность всякого патриотизма. "Предполагается, что чувство патриотизма есть, во-первых, чувство, свойственное всем людям, а во-вторых, такое нравственное чувство, что при отсутствии его должно быть возбуждено в тех, кто не имеет его..." - писал Толстой. "Но что же такое это высокое чувство, которое... должно быть возбуждено в народах? Чувство это есть в самом точном определении совсем не что иное, как предпочтение своего государства или народа всякому другому государству и народу... Очень может быть, что чувство это очень желательно и полезно для правительств и для цельности государства, но нельзя не видеть, что чувство это не высокое, а, напротив, очень глупое и безнравственное... потому что оно... прямо противоречит основному, признаваемому всеми нравственному закону: не делать другому и другим, чего бы не хотели, чтобы нам делали... Патриотизм в самом простом и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых целей, а для управляемых - отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти... Патриотизм есть рабство..." (39, 52, 61-65). Возражая людям умеренных взглядов (таким как, например, его английский друг и переводчик Э. Моод), полагавшим, что "вреден только дурной патриотизм, джингоизм, шовинизм", а "настоящий, хороший патриотизм есть очень возвышенное нравственное чувство" (*), Толстой писал, что "действительный патриотизм, тот, который мы все знаем... есть желание своему народу или государству наибольшего благосостояния и могущества, которые могут быть приобретены или приобретаются только в ущерб благосостоянию и могуществу других народов и государств..." (90, 49, 425-426). (* Maude Ailmer. The Life of Tolstoy. Later Years. L., 1910. P. 468-469. *) Судьба этих выступлений Толстого заслуживает внимания. Они не только были запрещены цензурой, но даже распространение их вызывало не раз судебные преследования. При жизни Толстого они публиковались за рубежом; отрывки из них в конце 1908 г. Толстой включил в виде эпиграфов в статью "О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии" (37, 222-242), которую он надеялся (как оказалось - напрасно) провести сквозь цензуру. В России эти статьи были изданы лишь вскоре после революции 1917 г. в виде отдельных брошюр. Позже они переиздавались всего один раз, в академическом Полном собрании сочинений (причем статьи 1896 и 1900 гг. попали почему-то, вопреки хронологии, в дополнительный, 90-й том собрания); ни в какие другие издания их не включали. И все же они не остались совсем незамеченными. Слова Толстого "патриотизм есть рабство" несколько лет назад задели чувства В. Г. Распутина, объяснившего в газете "Правда", что "отзываясь так о патриотизме, Толстой перепутал, очевидно, грешные наши дни с царством Божиим на земле, когда люди всех народов и рас будут лобызаться друг с другом" (*). (* Распутин В. Г. Знать себя патриотом // Правда. 1988. No 17, 24 июля. *) Перед нами, как выражался булгаковский Коровьев, "случай так называемого вранья". Достаточно прочитать упомянутые статьи, как и другие сочинения Толстого тех лет, чтобы убедиться, что Толстой считал патриотизм безнравственным вовсе не во времена "царства Божия на земле", а именно в современные ему "грешные дни". Живя в Ясной Поляне, Толстой поддерживал оживленные связи со всем миром и вовсе но видел в нем склонности к всеобщему "лобызанию". К написанию статей о патриотизме как раз и побудили его военные союзы, предвещавшие мировую войну, и войны между народами - на Балканах, в Африке, в Америке и на Дальнем Востоке. Именно отсутствие мира на земле дало основание писателю усомниться в благотворности любого национализма, любой приверженности к собственному отечеству, всегда служащей обоснованием войн. "Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершили ужасное злодейство, не чувствуя себя виноватыми, то возможно одно только решение: надо, чтобы люди были разделены на государства и народы, и чтобы им было внушено, что это разделение так полезно для них, что они должны жертвовать жизнями и всем, что у них есть святого, для вредного их разделения..." - писал Толстой (37, 222). Но "что станет с Россией", если она не будет защищать своих национально-государственных интересов - спрашивали у писателя. "Что станет с Россией?.." - отвечал Толстой. "Что такое Россия? Где ее начало, где конец? Польша? Остзейский край? Кавказ со всеми своими народами?.. Амур? Все это не только не Россия, но все это чужие народы, желающие освобождения от того соединения, которое называется Россией..." (36, 255). Изменение во взглядах Льва Толстого на патриотизм сказалось на всем его творчестве с 70-х годов XIX в. Именной указатель к девяноста томам его Полного собрания сочинений обнаруживает, что за весь этот период в огромном наследии писателя ни разу уже больше не упоминался Кутузов, занимавший столь важное место в окончательной редакции "Войны и мира", не упоминался и Суворов (*). Резко отрицательно относился Толстой к наиболее популярному из полководцев конца XIX в. - М. Скобелеву. Он рассказывал, как "после взятия Геок-Тепе, когда солдаты не шли грабить и убивать беззащитных стариков, детей, Скобелев велел напоить их пьяными, и они пошли" (27, 273, 524, 53.9; ср.: 28, 248; 39, 75). (* Кутузов упоминается только в конспективных заметках об Александре I по книге Н. Шильдера (55, 324, 517); рассказ о Суворове Толстой думал было включить в "Азбуку", но так и не написал его (21, 429, 430, 502). *) В январе 1904 г. началась русско-японская война. Лев Толстой откликнулся на нее статьей "Одумайтесь!". "Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей... - писал он. - Все знают неубедительность доводов, приводимых в пользу войн, вроде тех, которые приводил Де-Местр, Мольтке и другие... Все так называемые просвещенные люди знают все это. И вдруг начинается воина, и все это мгновенно забывается... И не говоря уже о военных, по своей профессии готовящихся к убийству, толпы так называемых просвещенных людей, ничем и никем к этому не побуждаемых... выражают самые враждебные, презрительные чувства к японцам, англичанам, американцам... и без всякой надобности выражают самые подлые, рабские чувства перед царем" (36, 101-105). В ответ на вопрос американской газеты, на чьей стороне он в этой войне, Толстой заявил: "Я ни за Россию, ни за Японию, я за рабочий народ обеих стран, обманутый правительством и вынужденный воевать противно собственному благосостоянию, своей совести и религии" (75, No 41, 37). Уже с 80-х годов Толстой начинает смотреть на историю с новой точки зрения - с позиции противников самодержавной власти. Каково же было отношение Толстого к противникам этой власти - революционерам? Н. Ульянов утверждал, что "в романе "Воскресение" революционеры, отправленные в заключение и в ссылку, изображены самыми отрицательными чертами" (*). Обращение к роману и другим толстовским сочинениям, дневникам, воспоминаниям современников не подтверждает этих слов. Еще в 1884 г., познакомившись с письмами политической ссыльной Н. Армфельд, Толстой записал в Дневнике: "Нельзя запрещать людям высказывать друг другу свои мысли о том, как лучше устроиться. А это одно, до бомб, делали наши революционеры" (49, 81). В 1889 г., написав статью в защиту политических заключенных, он вновь возвращался к вопросу о "требованиях" революционеров: "Оттого, что с требованиями этими связано убийство 1-го марта, люди вообразили, что требования эти неправильны. Напрасно. Они будут верны до тех пор, пока не будут исполнены" (50, 194). Обратившись к "Воскресению", написанному в 90-х годах, мы можем убедиться, что революционеры изображены там далеко не только отрицательными чертами. Описывая знакомство Нехлюдова на этапе с политическими заключенными, Толстой писал: "С самого начала революционного движения в России, и в особенности после 1-го марта, Нехлюдов питал к революционерам недоброжелательное и презрительное чувство... Но узнав их ближе и все то, что они часто безвинно перестрадали от правительства, он увидал, что они и не могли быть иными, как такими, какими они были... Узнав их ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие и дурные и средние люди. Были среди них люди, ставшие революционерами потому, что искренно считали себя обязанными бороться с существующим злом; но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических, тщеславных мотивов; большинство же было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи. Различие их от обыкновенных людей, и в их пользу, состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считались обязательными не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своею жизнью, для общего дела. И потому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его..." (33, 373-375). К числу тех революционеров, которых он считал "образцом редкой нравственной высоты", Толстой относил Софью Перовскую, Валериана Осинского, Дмитрия Лизогуба (последнего он описал в первоначальном варианте "Воскресения" - в рассказе "Божеское и человеческое" под именем Светлогуба); отвергая их деятельность, он писал, однако, что это были "лучшие, высоконравственные, самоотверженные, добрые люди" (36, 151). (* Oualianoff N. Tolstoy's Nationalism. P. 102. Вся статья Н. Ульянова имела чрезвычайно тенденциозный характер. Не разбирая совсем исторической философии "Войны и мира", автор отверг ее за "дикий и безрассудный экстремизм"; оставил без внимания он и аргументацию писателя в статьях о патриотизме, противопоставив ей отдельные примеры отрицательного изображения инородцев в сочинениях Толстого и утверждая, что "во всей истории мировой литературы трудно найти другого писателя, чьи чувства и поведение так противоречили бы его учению", как у Толстого (р. 109-113). *) Отношение Толстого к революции 1905 г. было двойственным. К либеральному движению 1904 г. он относился отрицательно и высказал это отношение в телеграмме, посланной в ответ на запрос одной американской газеты. Телеграмма Толстого была с большой радостью воспринята реакционной газетой "Московские ведомости", поместившей ее в обратном переводе и с сокращениями. Люди, сочувствовавшие освободительному движению. восприняли публикацию "Московских ведомостей" как доказательство враждебности Толстого революции и в многочисленных письмах упрекали писателя. Одно из таких писем, очень резкое, было написано Горьким, хотя отправлено им не было (*). В начале 1905 г., уже после 9 Января, Толстой написал статью "Общественное движение в России". Основная тема этой статьи - бесперспективность революции: "Не только русское, но и всякое правительство я считаю... учреждением для совершения посредством насилия безнаказанно самых ужасных преступлений, убийств, ограблений, спаивания, одурения народа богатыми и властолюбивыми". Деятельность революционеров он считал нецелесообразной, "потому что борьба силою и вообще внешними проявлениями (а не одной духовной силой) ничтожной горстки людей с могущественным правительством, отстаивающим свою жизнь и имеющим для этого в своей власти миллионы вооруженных дисциплинированных людей и миллиарды денег, - только смешна с точки зрения возможности успеха и жалка с точки зрения погибели тех несчастных увлеченных людей, которые гибнут в этой борьбе" (36, 157-158). Но уже во второй половине 1905 г. в статье "Конец века" Толстой высказал мысль о неизбежности произошедшей революции. (* Горький М. Собр. соч. М., 1954. Т. 28. С. 357-361. *) О людях, которым она представлялась неожиданностью, он писал: "Люди эти должны понять, что революции не делаются нарочно: "дай, мы сделаем революцию"" (36, 260). "Причины совершающейся в России революции, - беспорядки, буйства, насилия... никак не доказывают, что существующий порядок был хорош. Революция состоит в замене худшего порядка лучшим. И замена эта не может совершиться без внутреннего потрясения, но потрясения временного. Замена же дурного порядка лучшим есть неизбежный и благотворный шаг вперед человечества" (36, 479, 487-488). Несколько раз возвращался Толстой к параллели между русской и Великой французской революцией: "Думаю, что начинающаяся сейчас в России революция будет, как и большая французская революция, не только русская революция, но революция всемирная... Как французы были призваны к тому, чтобы обновить мир, так к тому же призваны русские в 1905 г." (36, 480, 667; ср. 55, 151) (*). И вместе с тем Толстой вовсе не был солидарен в 1905-1906 гг. с революционерами. Спор с ними он вел не только с нравственных позиций, отрицая сопротивление злу насилием, но и на основе своих представлений об историческом процессе. С одной стороны, он не верил в то, что "одни люди должны и могут устраивать жизнь других людей", и предсказывал, что представители "нового правительства", созданного революцией, могут захватить "львиную долю" власти и богатства, а с другой сомневался в успехе самой революции. Он утверждал, что нет "ни малейшего вероятия" в победе революционеров над царским строем (36, 149, 158). (* Такие же высказывания Толстого приводил Гольденвейзер. См.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого (записи за 15 лет). М., 1922. Т. 1. *) Уже после этого предсказания произошло восстание на броненосце "Потемкин" и Октябрьская стачка, заставившая царя согласиться на манифест 17 октября. Но самодержавие все же оказалось достаточно сильным, чтобы справиться с революцией, и в этом смысле пророчество Толстого подтвердилось. Наступила эпоха, которую до последних лет обычно именовали "столыпинской реакцией".