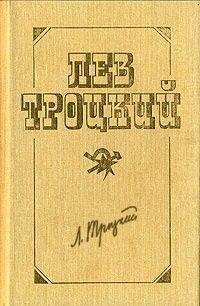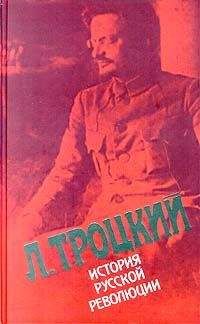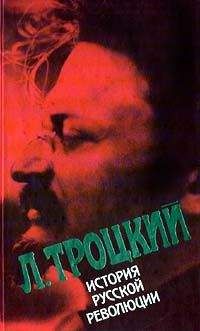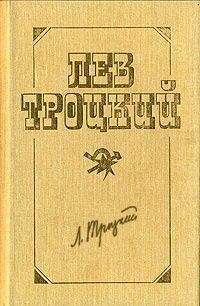Лев Троцкий - Наша первая революция. Часть II
Первые навыки массовых уличных действий были приобретены громилами в «патриотических» демонстрациях начала русско-японской войны. Тогда уже определились основные аксессуары: портрет императора, бутылка водки, трехцветное знамя. С того времени планомерная организация социальных отбросов получила колоссальное развитие: если масса участников погрома – поскольку тут может идти речь о «массе» – остается более или менее случайной, то ядро всегда дисциплинировано и организовано на военный лад. Оно получает сверху и передает вниз лозунг и пароль, определяет время и размер кровавых действий. «Погром устроить можно какой угодно, – заявил чиновник департамента полиции Комиссаров, – хотите на 10 человек, а хотите и на 10 тысяч»{7}.
О надвигающемся погроме знают все заранее: распространяются погромные воззвания, появляются кровожадные статьи в официальных «Губернских Ведомостях», иногда начинает выходить специальная газета. Одесский градоначальник выпускает от своего имени провокационную прокламацию. Когда почва подготовлена, являются гастролеры, специалисты своего дела. С ними вместе проникают в темную массу зловещие слухи: евреи собираются напасть на православных; социалисты осквернили святую икону; студенты порвали царский портрет. Где нет университета, там слух приурочивается к либеральной земской управе, даже к гимназии. Дикие вести бегут с места на место по телеграфной проволоке, иногда со штемпелем официальности. А в это время совершается подготовительная техническая работа: составляются проскрипционные списки лиц и квартир, подлежащих разгрому в первую очередь, вырабатывается общий стратегический план, из пригородов вызывается на определенное число голодное воронье. В назначенный день молебствие в соборе. Торжественная речь преосвященного. Патриотическое шествие – с духовенством во главе, с царским портретом, взятым в полицейском управлении, со множеством национальных знамен. Непрерывно играет оркестр военной музыки. По бокам и в хвосте – полиция. Губернаторы делают шествию под козырек, полицеймейстеры всенародно целуются с именитыми черносотенцами. В церквах по пути звонят колокола. «Шапки долой!» В толпе рассеяны приезжие инструкторы и местные полицейские в штатском платье, но нередко в форменных брюках, которых не успели сменить. Они зорко смотрят вокруг, дразнят толпу, науськивают ее, внушают ей сознание, что ей все позволено, и ищут повода для открытых действий. Для начала бьют стекла, избивают отдельных встречных, врываются в трактиры и пьют без конца. Военный оркестр неутомимо повторяет: «боже, царя храни», эту боевую песнь погромов. Если повода нет, его создают: забираются на чердак и оттуда стреляют в толпу, чаще всего холостыми зарядами. Вооруженные полицейскими револьверами дружины следят за тем, чтоб ярость толпы не парализовалась страхом. Они отвечают на провокаторский выстрел залпом по окнам намеченных заранее квартир. Разбивают лавки и расстилают перед патриотическим шествием награбленные сукна и шелка. Если встречаются с отпором самообороны, на помощь являются регулярные войска. В два-три залпа они расстреливают самооборону или обрекают на бессилие, не подпуская ее на выстрел винтовки… Охраняемая спереди и с тылу солдатскими патрулями, с казачьей сотней для рекогносцировки, с полицейскими и провокаторами в качестве руководителей, с наемниками для второстепенных ролей, с добровольцами, вынюхивающими поживу, банда носится по городу в кроваво-пьяном угаре{8}… Босяк царит. Трепещущий раб, час тому назад затравленный полицией и голодом, он чувствует себя сейчас неограниченным деспотом. Ему все позволено, он все может, он господствует над имуществом и честью, над жизнью и смертью. Он хочет – и выбрасывает старуху с роялем из окна третьего этажа, разбивает стул о голову грудного младенца, насилует девочку на глазах толпы, вбивает гвоздь в живое человеческое тело… Истребляет поголовно целые семейства; обливает дом керосином, превращает его в пылающий костер, и всякого, кто выбрасывается из окна, добивает на мостовой палкой. Стаей врывается в армянскую богадельню, режет стариков, больных, женщин, детей… Нет таких истязаний, рожденных горячечным мозгом, безумным от вина и ярости, пред которыми он должен был бы остановиться. Он все может, все смеет… «Боже, царя храни!» Вот юноша, который взглянул в лицо смерти, – и в минуту поседел. Вот десятилетний мальчик, сошедший с ума над растерзанными трупами своих родителей. Вот военный врач, перенесший все ужасы порт-артурской осады, но не выдержавший нескольких часов одесского погрома и погрузившийся в вечную ночь безумия. «Боже, царя храни!..» Окровавленные, обгорелые, обезумевшие жертвы мечутся в кошмарной панике, ища спасения. Одни снимают окровавленные платья с убитых и, облачившись в них, ложатся в груду трупов – лежат сутки, двое, трое… Другие падают на колени перед офицерами, громилами, полицейскими, простирают руки, ползают в пыли, целуют солдатские сапоги, умоляют о помощи. Им отвечают пьяным хохотом. «Вы хотели свободы – пожинайте ее плоды». В этих словах – вся адская мораль политики погромов… Захлебываясь в крови, мчится босяк вперед. Он все может, он все смеет, – он царит. «Белый царь» ему все позволил, – да здравствует белый царь!{9}. И он не ошибается. Не кто другой, как самодержец всероссийский, является верховным покровителем той полуправительственной погромно-разбойничьей каморры, которая переплетается с официальной бюрократией, объединяя на местах более ста крупных администраторов и имея своим генеральным штабом придворную камарилью. Тупой и запуганный, ничтожный и всесильный, весь во власти предрассудков, достойных эскимоса, с кровью, отравленной всеми пороками ряда царственных поколений, Николай Романов соединяет в себе, как многие лица его профессии, грязное сладострастие с апатичной жестокостью. Революция, начиная с 9 января, сорвала с него все священные покровы и тем развратила его самого вконец. Прошло время, когда, оставаясь сам в тени, он довольствовался агентурой Трепова по погромным делам{10}. Теперь он бравирует своей связью с разнузданной сволочью кабаков и арестантских рот. Топча ногами глупую фикцию «монарха вне партий», он обменивается дружественными телеграммами с отъявленными громилами, дает аудиенции «патриотам», покрытым плевками общего презрения, и по требованию Союза Русского Народа дарит свое помилование всем без изъятия убийцам и грабителям, осужденным его же собственными судами. Трудно представить себе более разнузданное издевательство над торжественной мистикой монархизма, как поведение этого реального монарха, которого любой суд любой страны должен был бы приговорить к пожизненным каторжным работам, если бы только признал его вменяемым!..
В черной октябрьской вакханалии, перед которой ужасы Варфоломеевской ночи кажутся невинным театральным эффектом, сто городов потеряли от трех с половиною до четырех тысяч убитыми и до десяти тысяч изувеченными. Материальный ущерб, исчисляемый десятками, если не сотнями миллионов рублей, в несколько раз превышает убытки помещиков от аграрных волнений… Так старый порядок мстил за свое унижение!
Какова была роль рабочих в этих потрясающих событиях?
В конце октября президент федерации североамериканских профессиональных союзов прислал на имя графа Витте телеграмму, в которой энергично призывал русских рабочих выступить против погромов, угрожающих недавно завоеванной свободе. «От имени не только трех миллионов организованных рабочих, – так заканчивалась телеграмма, – но и от всех рабочих Соединенных Штатов, я прошу вас, граф, передать эту депешу вашим согражданам – нашим братьям-рабочим». Но гр. Витте, который недавно только корчил из себя в Америке истого демократа, провозглашая, что «перо сильнее меча», нашел в себе теперь достаточно бесстыдства, чтобы втихомолку спрятать рабочую телеграмму в потайной ящик своего письменного стола. Только в ноябре Совет узнал о ней окольными путями. Но русским рабочим – к их чести – не нужно было дожидаться предостерегающего напоминания своих заокеанских друзей, чтоб активно вмешаться в кровавые события. В целом ряде городов они организовали вооруженные дружины, оказывавшие активный, местами героический отпор громилам, – и если войска держали себя хоть сколько-нибудь нейтрально, рабочая милиция без труда подавляла хулиганский разгул.
«Наряду с этим кошмаром, – писал в те дни Немирович-Данченко, старый писатель, бесконечно далекий от социализма и пролетариата, – с этой вальпургиевой ночью умирающего чудовища, – посмотрите, с какою удивительной стойкостью, порядком и дисциплиною развивалось величавое движение рабочих. Они не запятнали себя ни убийствами, ни грабежами, – напротив, всюду они являлись на помощь обществу и, разумеется, куда лучше полиции, казаков и жандармов охраняли его от истребительного делириума захлебнувшихся кровью Каинов. Боевые дружины рабочих бросались туда, где начинали неистовствовать хулиганы. Новая выступающая на историческую арену сила показала себя спокойной в сознании своего права, умеренной в торжестве идеалов свободы и добра, организованной и повинующейся, как настоящее войско, знающее, что его победа – победа всего, ради чего живет, мыслит и радуется, бьется и мучится человечество».