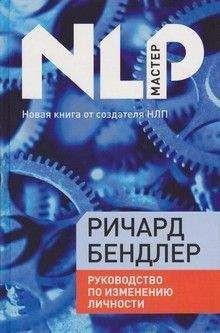Ричард Сеннетт - Коррозия характера
Логика иерархии была уже не столь простой. Макс Вебер утверждал, давая определение человеческой железной клетке, что «нет необходимости приводить специальные доводы в доказательство того, что военная дисциплина является идеальной моделью для современной капиталистической фабрики»[26]. В компаниях, подобных «Дженерал Моторз» в 50-х годах, Белл отметил наличие несколько иной модели контроля: «Суперструктура, которая организует и направляет производство… устраняет из цеха всю возможную мозговую работу; все сконцентрировано в определяющих график работы, а также планирующих и проектирующих отделах». В «архитектуре» это означало необходимость как можно дальше отодвинуть техников и менеджеров от пульсирующей машинерии заводов. Генералы производства, таким образом, утратили непосредственный физический контакт со своими войсками. Результат, однако, только усилил отупляющее воздействие рутины, так как «рабочий, пребывающий в самом низу и посвященный только в незначительные детали, был отчужден от возможности принимать какие-либо решения или внесения модификаций в продукт, который он же и производил»[27].
Все эти пороки на заводе в Уиллоу Ран были следствием тейлористской логики «метрического времени». Повсюду на огромном заводе время калькулировалось поминутно для того, чтобы высшие менеджеры знали точно, что делал каждый работник в тот или иной момент. Белл, например, был поражен тем, как на заводе «Дженерал Моторз» «делят час на десять шестиминутных отрезков… и труд рабочего оплачивается по числу „десятин“ каждого часа, в которые он работает»[28]. Эта поминутная инженерия рабочего времени была привязана к очень длинным мерам времени работы всей корпорации. Оплата за выслугу лет была прекрасно подогнана к общему числу часов, которые мужчины или женщины проработали на «Дженерал Моторз». Любой работник мог с точностью до минуты рассчитать «выгоды» отпускного времени или отпуска по болезни. Микрометрия времени так же, как работниками физического труда на сборочной линии, управляла и низшими эшелонами «белых воротничков» из офисов, определяя их продвижение по службе или получаемые ими выгоды.
Однако когда на работу пришло поколение Энрико, метрики времени стали чем-то иным, нежели просто актом подавления и доминирования, который практиковал управленческий слой во имя гигантского индустриального роста организации. Интенсивные переговоры по поводу режима труда стали приоритетными для обеих сторон — как для объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности, так и для менеджмента компании «Дженерал Моторз». Рядовые члены профсоюза уделяли пристальное, порой даже чрезвычайно пристальное, внимание цифрам, которые обсуждались на этих переговорах. Рутинизированное время стало, так сказать, ареной, на которой рабочие могли отстоять свои требования, ареной демонстрации силы.
Это был политический результат, которого Адам Смит не ожидал и не предвидел. Предпринимательские «бури», которые Шумпеттер образно назвал «созидательной деструкцией», показали, что идеализированный Смитом тип булавочной фабрики шел к банкротству на протяжении всего XIX века. Рациональность этого типа хорошо выглядела как чертеж на бумаге, но воплощенная в металл и камень могла просуществовать только несколько лет. Исходя из этого, рабочие, чтобы оградить себя от этих хаотических явлений, тоже попытались придать упорядоченность времени за счет сбережений в кассах взаимопомощи или закладных на дома, получаемых от строительных компаний. Сейчас мы едва ли расположены думать о распланированном времени, как о некоем личностном достижении, но, принимая во внимание стрессы, бумы и кризисы индустриального капитализма, оно часто становиться таковым. Инженерия рутинного времени, которая возникла на заводе Форда в Хайленд Парке, нашла свое логическое завершение на заводе «Дженерал Моторз» в Уиллоу Ран. Мы уже знаем, как из этого навязчивого, точно расписанного времени Энрико выкраивал благоприятный для себя нарратив своей жизни. Рутина может лишить значимости, но она же может и защитить; рутина может расчленить труд, но она же может и «сочинить» жизнь.
Тем не менее сущность опасений Смита стала очевидна и Дэниэлю Беллу, который пытался понять, почему рабочие не восстают против капитализма. При этом отметим, что Белл как бы остановился на полпути от дверей, ведущих в социалистическую веру. Он давно понял, что недовольство своей работой, даже тех, у кого ее содержание было выхолощено полностью, не ведет к восстанию: сопротивление рутине не порождает революцию. И все же Белл оставался хорошим сыном в социалистическом доме, так как он верил, что на расползающейся во всех направлениях фабрике в Уиллоу Ран он наблюдал сцены из трагедии.
Нить от фабрики в Уиллоу Ран, с точки зрения Белла, тянется во времени назад — к заводам Форда в Хайленд Парке, затем уходит еще дальше в историю — опять-таки к булавочной фабрике Адама Смита. Рутина появлялась во всех этих сценах труда как деградирующая личность, как источник ментального невежества — и невежества особого рода. Непосредственное настоящее может быть достаточно ясным, когда работник час за часом давит на один и тот же рычаг или на одну и ту же рукоять. Чего точно не хватает рабочему, занятому рутинным трудом, так это некоего большего видения другого будущего или знания того, как добиться перемен. Перефразируя эту критику рутины, можно сказать, что механическая активность не порождает чувства какого-либо большего по масштабу исторического нарратива: микронарративы жизни таких рабочих, как Энрико, показались бы Марксу явно незначительными в большом масштабе Истории, или просто приспособленчеством к существующим обстоятельствам.
Вот почему давняя дискуссия между Дени Дидро и Адамом Смитом все еще остается яркой и злободневной. Дидро не считал, что рутинная работа ведет к деградации; напротив, он думал, что рутина порождает нарративы, так как правила и ритмы работы постепенно эволюционируют. В этом есть определенная ирония, ибо этот «философ» и светский человек, «творение» блестящих парижских салонов середины XVIII века, оказывается сегодня гораздо лучшим защитником естественного достоинства «обыкновенного» труда, чем многие из тех, кто выступает от имени Народа. Крупнейшим современным наследником Дидро в этом смысле стал социолог Антони Гидденс, который попытался сохранить интуитивные представления Дидро, подчеркивая первостепенную ценность привычки, касается ли это социальной деятельности или понимания самого себя; мы подвергаем испытанию альтернативы, только отталкиваясь от привычек, которыми уже обзавелись. Вообразить жизнь как состоящую из моментальных импульсов, из краткосрочных действий, лишенную устойчивой рутины, некую жизнь без привычек, — это все равно, что представить себе некое бездумное существование[29].
Сегодня мы стоим у исторического водораздела — это я говорю, имея в виду проблему рутины. Новый «язык гибкости» предполагает, что рутина умирает в динамических секторах экономики. Однако большая часть работы остается замкнутой внутри круга фордизма. Простая статистика мало что говорит, но хорошее описание современных типов работ, представленное в таблице 1, указывает, что по меньшей мере две трети этих работ носит «повторяющийся» характер с приемами и способами, которые Адам Смит признал бы родственными тем, которые применялись на описанной им булавочной фабрике. Так, использование компьютера на работе (таблица 7) подобным же образом, по большей части, включает в себя вполне рутинные операции вроде получения данных. Если мы вместе с Дидро и Гидденсом считаем, что такому труду необязательно должен быть присущ принижающий нас характер, тогда мы должны сосредоточиться на условиях работы, в которых этот труд осуществляется. И тогда мы должны надеяться превратить фабрики и офисы в некие сценки труда, который носит кооперативный, основанный на взаимопомощи характер, подобный тому, что изображен на гравюрах, посвященных фабрике в Ла Англэ.
Если, однако, мы склонны полагать, что рутине изначально присущ принижающий нас характер, тогда мы будем нападать на саму природу рабочего процесса как такового. Мы будем питать отвращение как к рутине, так и к породившей ее бюрократии. Хотя при этом мы можем в значительной степени быть влекомыми практическим желанием к большей восприимчивости рынка, продуктивности и прибыли. Но мы не должны быть просто жадными капиталистами; мы должны верить, следуя Адаму Смиту, что людей стимулирует более гибкий опыт, как в работе, так и в других сферах деятельности. Мы можем верить в благо спонтанности. Но тогда возникнет такой вопрос: станет ли гибкость со всеми ее рисками и неопределенностями, которые она влечет за собой, лекарством от человеческого зла, на которое она нападает. Даже если предположить, что рутина оказывает «убаюкивающее» воздействие на личность, то каким же образом гибкость может сделать человеческое существо более заинтересованным?