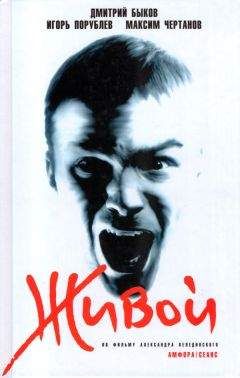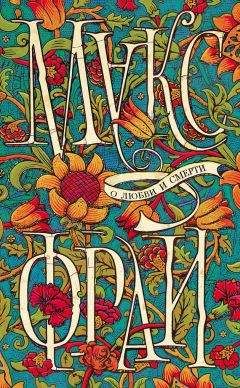Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
Что касается роковой красавицы (у Шолохова в этой функции выступает Лушка, а уж у позднесоветских эпигонов — Иванова, Проскурина — их было по три на роман): красавица есть, Стешка Огнева, но и здесь сказался панферовский коллективизм: ее вожделеют все, всем она люба и желанна, точно и вкусы у всех героев одинаковы, а достается она признанному вожаку, Кириллу. Всего интересней, что в третьем томе (тут, под влиянием горьковской критики, Панферов стал писать ощутимо ясней, с минимумом диалектизмов, и даже речь героев яснеет по мере приобщения их к новой колхозной реальности) Стешка становится шофером — первой женщиной-шофером в русской литературе, и это особо возбуждает всех, кто и так вокруг нее вился; сама же она, как сметана вокруг кота, вьется вокруг Ждаркина, харизматичного лидера, который и овладевает ею в конце концов, естественно, на земле, и хорошо еще, что не в навозе.
Наличествует и восстание — Полдомасовский бунт, который, пожалуй, во всем третьем томе лучшее звено. Он, конечно, ходулен донельзя, но мой однофамилец Маркел Быков произносит там лучшую шутку на весь роман: надо, мол, непременно надо пойти по одной дороге с советской властью! Как это — не пойти с ней по одной дороге?! Вместе, только вместе, чтоб сподручней в бок пырнуть! Что, кстати, и было исполнено. Но хороши там не диалоги, а чувство обреченности, когда бунтовщиков осаждают со всех сторон, когда зачинщиков бунта привязывают к тракторам, чтоб не убежали… Вот в этом что-то есть; и сама сцена ночного штурма — ничего себе, с напряжением, с лютостью.
Напоследок — еще об одном вкладе Панферова в копилку советской литературы: придумывать-то он мог, этого не отнять. Он умеет завязать сюжет, но тут же бросает — тоже, вероятно, из страха написать хорошо: по его твердому РАППовскому убеждению, всех, кто хорошо пишет, будут критиковать, а впоследствии убивать. Представляю, как он радовался, читая в первом издании советской литературной энциклопедии, что ему не хватает мастерства: и то сказать, если ты чего-то не умеешь — ты как бы не совсем писатель, и, значит, обычные писательские неприятности на тебя не распространяются! Так вот, некоторые его придумки потом, в руках настоящих писателей, превратились в чудо: мало кто сегодня знает, что историю Никиты Моргунка, ищущего страну Муравию, «страну без коллективизации», придумал Панферов. Только звали его героя — Никита Гурьянов. Изложена эта заявка в третьей главке третьего звена третьего же тома, да так и брошена, и подхватил ее, придирчиво читая «Бруски», двадцатипятилетний Твардовский. В результате «Страна Муравия» сделалась популярнейшей поэмой тридцатых годов, и автору, заканчивавшему ИФЛИ в 1939 году, вынулся на экзамене билет как раз об ее художественном своеобразии. Если и апокриф, то правдоподобный: в экзаменационных билетах такой вопрос был. Но Твардовский сделал из этой истории народную сказку, подлинный эпос: «С утра на полдень едет он, дорога далека. Свет белый с четырех сторон, а сверху облака». Где Панферову! Он иногда способен нарисовать славный, поэтичный пейзаж — но тут же вспоминает, что он пролетарский писатель, и как ввернет что-нибудь навозное, все очарование тут же и улетает.
…Этот роман трудно читать и невозможно любить, и годится он скорее для наглядного примера, нежели для повседневного читательского обихода. Но как знамение эпохи он показателен и, мнится, актуален — особенно для тех, кто уверен, что Россия рано или поздно вступит на путь индивидуализма. Слишком она велика, грязна и холодна, чтобы жители ее позволили себе распасться и разлипнуться. Роман Панферова — грязный, уродливый, неровный ком сложной и неизвестной субстанции, но из этой же субстанции состоит мир, который им описан. В этом мире есть и радость, и любовь, и даже милосердие, но все это изрядно выпачкано; точность конструкции в том, что эта грязь не столько пачкает, сколько цементирует. Все мы ею спаяны в одинаковые бруски, из которых и сложено наше общее здание — не мрамор, конечно, зато уж на века.
В моем издании 1935 года есть еще чудесный список опечаток. Типа: напечатано «заерзал», следует читать — «зарезал».
Панферову, наверное, понравилось. Парфенову понравилось бы тоже.
7 октября
Родилась Новелла Матвеева (1934)
ЧИСТЕЙШИЙ ОБРАЗЕЦ
Самое чистое вещество искусства, которое мне в жизни случалось видеть, — это песни Новеллы Матвеевой в авторском исполнении, просто так, на концерте или у нее дома, в Москве или на Сходне, за чайным столом или на крыльце. Человек берет семиструнную гитару, начинает играть и петь — и дальше то, о чем точнее всего сказала Эмили Дикинсон: словно откидывается верхушка черепа, и я уже не глазами, но всем разумом вижу звездное небо. Самый прямой репортаж из рая.
Про Матвееву наговорено немало пошлостей, но я нисколько не пытаюсь обидеть или укорить тех, кто все это писал или говорил: человеческих слов не придумано для определения того, что она делает. Как расскажешь? Приходится громоздить штампы про детский голос, про дальние страны, про, Господи Боже мой, романтику, про скудный быт и трудную судьбу с редкими, но разительными, гриновскими чудесами. И я писал про нее почти всегда в этом духе, потому что надо было что-нибудь писать. Хотя вру. Первая моя статья о Матвеевой была резко-ругательная и, может быть, самая адекватная. В июне 1983 года я купил в «Мелодии» на тогда еще Калининском пластинку «Дорога — мой дом» и сам для себя (какие печатные разборы в пятнадцать лет!) написал довольно-таки разгромную рецензию. Меня дико раздражала эта музыка и эти стихи, это было ни на что не похоже, с этим надо было что-то делать. Я думаю — впрочем, это не я один заметил, — что истинно восторженная реакция на искусство есть реакция чаще всего недоброжелательная. Степень новизны такова, что это не дает жить дальше, беспокоит, как заноза. Так древесина выталкивает топор. Надо как-то приспособиться, тогда уже можешь включить эстетическое чувство. А сначала — «уберите!». Такая реакция, помнится, была у меня сначала на фильмы Германа, в особенности на «Хрусталева»; на Петрушевскую, на «Мастера и Маргариту» в одиннадцать лет, на «Ожог», который и был ожогом. Матвеева меня тоже сильно обожгла, потому что вещество, как было сказано, очень уж чисто. Это было ни на что не похоже и раздражало, и я уже крепко сидел на этом крючке, и со следующей недели начал собирать все матвеевское, что мог достать. Со стихами было проще, они выходили книгами, а с песнями — зарез: даром что первая в России бардовская пластинка (1966) была именно матвеевской, выходили они редко, а концерты случались раз в полгода, если не реже.
Тут вообще интересная особенность — даже математически легко обосновать, что чем уже круг, тем сильнее чувства в этом кругу. Чем меньше народу любят автора, тем интенсивнее фанатеют. Матвеева «попадает» в сравнительно небольшой сегмент аудитории — авторская песня и сама по себе фольклор интеллигенции, а это состояние народа сегодня в далеком прошлом; плюс к тому очень уж это своеобразно, и сложно, при всей внешней простоте, и мелодически изысканно, но это все мимо. Изыскан и Алексей Паперный, тексты первоклассные и у Богушевской (в особенности ранней), высоким голосом при желании может спеть и Сезария Эвора, и не в этом дело. В Матвеевой бросается в глаза — хотя про себя этого не формулируешь, конечно, — сочетание силы и беззащитности. Скажем чуть иначе — тонкости и яркости, ибо яркое обычно аляповато, а у Матвеевой резкие, ослепительные подчас краски сочетаются с особым вниманием к пограничным, тончайшим, едва уловимым состояниям, к завиткам мысли, которые привычно забываешь, не отслеживаешь, к полубессознательным желанием и страхам. У нее много сновидческих пейзажей и сюжетов — именно потому, что во сне с невероятной яркостью, не контролируемой, не пригашаемой сознанием, переживаешь маловероятное и зыбкое, стремительно ускользающее. Матвеева умеет смотреть сны, как никто: из снов выросли ее романы (поныне неизданные, о них ниже), волшебная пьеса «Трактир „Четвереньки“» и готическая, страшноватая повесть «Дама-бродяга», и «Синее море» — знаменитейшая песня — приснилась ей во сне. В русской литературе мало столь опытных, изощренных, внимательных и благодарных сновидцев, и только ли в русской?
И еще одно забавное наблюдение, позволяющее объяснить точный вывод Чупринина из предисловия к матвеевскому «Избранному» 1984 года: узнавание у ЕЕ читателя и этого автора — мгновенное и взаимное. На Матвееву «западают» сразу и навек, пусть даже это западание выражается поначалу в недоумении, а то и неприятии. Так опознают друг друга люди схожего опыта; скажем откровеннее — речь об опыте травли. Я думаю, травят чаще всего не тех, кто смешон, жалок или слаб. Таких-то как раз терпят, хоть и насмехаются; бросают объедки, держат на побегушках, используют для травли тех, кого ненавидят действительно. Объектом же охоты — массовой, упорной, изобретательной — становятся сильные, то есть те, кто потенциально опасен; те, кто безошибочным инстинктом толпы — стада — массы немедленно вычисляется, опознается как чуждый, но при этом потенциально влиятельный. Травимые — чаще всего именно неформальные лидеры, которых можно победить единственным способом: не дать им состояться. Ибо тогда их будет уже не остановить; по крайней мере — не силами этого коллектива.