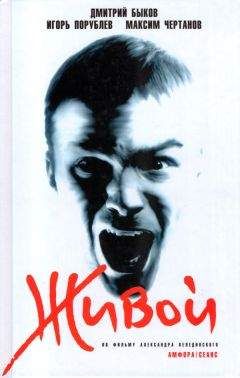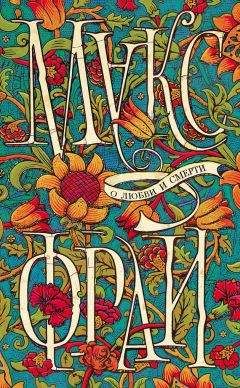Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
Вторая и не менее важная черта русского социума сформулирована прекрасным шахматистом и бизнесменом Жоэлем Лотье, которого я часто цитирую: «На трудную задачу зовите китайца, на неосуществимую — русского». Нужно уметь поставить стране — пусть чисто номинально — великую и неосуществимую задачу, и прекрасный русский прозаик Александр Мелихов об этом талдычит не первый год. Не нужно ломать страну об колено — надо наконец научиться жить с тем, что есть; а то, что есть, немыслимо без великой цели, способной мобилизовать лучшие силы в болоте и объяснить ему из прекрасного будущего, почему у него такое зыбкое настоящее. Строить на болоте многолетние великие прожекты нельзя, но представить само болото таким прожектом можно, и в этом не будет преувеличения. Нужно уметь рассмотреть Россию не как дополнение к Западу и Востоку, а как их синтез и альтернативу им обоим. Нужно уметь сформулировать прекрасную непрагматическую задачу вроде полета на Марс и разбудить одиноких гениев, способных добиться подобного результата быстрей, чем на прагматичном Западе или на фанатичном Востоке. Иными словами, нужно найти красивое, ненасильственное и притом привлекательное словесное оформление для великой, пусть недостижимой, в меру конкретной задачи. Это может быть освоение космоса, а может — способ борьбы с даунизмом; может — великая биологическая революция, а может — экологически чистый продукт. Но без такой непрагматической — при этом внеидеологической и лучше бы наукоемкой — задачи русский социум ничего не сделает, попросту не обратит внимания на новую государственную риторику и на президента Медведева как такового, который пока уважать себя заставил только одним — вступился за поселок «Речник».
Третьей же чертой русского социума является недоверие к государственным институтам, и чем дальше будет народ от государства, Англия от Индии, — тем лучше для обоих. Россия отлично вырабатывает неформальные институты для самоуправления, и только их легализация (вроде, скажем, легализации каст в той же Индии, где англичане пытались объявить их предрассудком) может быть надежным инструментом государственного управления. Вот почему я считал бы столь важным всяческое распространение компромиссных форм суда — главного, недооцениваемого многими инструмента управления страной. Суд должен вызывать абсолютное доверие, а потому повсеместное распространение мировых судов, выборность судей, народная оценка судей могли бы стать базисом для чаемого компромисса между народом и властью. И это — задача первоочередная, а главное — разрешимая.
Если мы действительно верим, что вступили в эпоху мягкой силы, нам надо для начала научиться изучать (на основе фольклора, блогов, социальных сетей), а главное — любить то, что у нас есть. Перефразируя Уоррена — мы должны построить рай из того, что под руками, ибо ничего другого не дано. Болото только выглядит хаосом — на самом деле это гибкая, сложно организованная, изощренная система. И устоять на нем способно только то, что построено с учетом его законов. Подмораживать или разогревать его бессмысленно. Надо решиться либо раз навсегда от него избавиться, либо осознать его как единственную реальность и сделать уютней любой воды или суши.
2 октября
Родился Федор Панферов (1896)
РУССКИЙ КОМ
Роман Федора Панферова «Бруски» был в нашем доме книгой культовой. Правда, самого его в доме не было, я приобрел прославленный текст позже, в букинистическом, почти за тысячу нынешних рублей. Но название было нарицательно: мать, прилежно и с наслаждением прочитавшая всю программную литературу филфака, не смогла продраться только через два романа — «Коммунисты» Арагона и «Бруски» Панферова. Эти последние в домашнем жаргоне обозначали уровень, ниже которого не может быть ничего: про безнадежную книгу мы и поныне говорим — «полные бруски». Даже творчество панферовской жены Антонины Коптяевой на фоне этого текста представляется, ну я не знаю, как-то более нейтральным, что ли, хотя бы в смысле языковом. Не так все могутно-сыромятно. Можно найти в сегодняшней России читателя на Леонова, Эренбурга (включая «Бурю»), даже вон трехтомник Федина только что выпущен «Террой», в точном соответствии с прогнозом автора этих строк, но я не в состоянии найти человека, который бы добровольно прочел четыре тома «Брусков» (1933―1937).
Между тем напрасно — книга интересная, показательная, местами очень смешная. Оказывается, возможен контекст, в котором «Бруски» читаются с любопытством, причем не только этнографическим. Вообразите читателя, который пытается воссоздать российскую реальность нулевых по романам, допустим, Олега Роя или Дмитрия Вересова: у него ничего не получится, кроме набора штампов, неизменных с серебряного века. Но Панферов запечатлел сразу две реальности, ныне совершенно и безнадежно утраченные: во-первых, упреки в натурализме были не вовсе безосновательны — кое-что из описанного он действительно видел и перетащил в роман без изменений, такого не выдумаешь, не мешает даже кондовейший язык. Во-вторых, существовала реальность второго порядка — РАПП, к которому Панферов принадлежал с самого начала и разгром которого умудрился пережить. Думаю, причина его живучести была в том, что у наиболее активных РАППовцев — Авербаха, Киршона, даже и у Селивановского — была система взглядов, пусть калечных, убогих, антилитературных по своей природе; а у Панферова взглядов не было, и РАППство он понимал просто. Надо писать как можно хуже, и все будет хорошо. Это будет по-пролетарски. Эта же тактика спасла Панферова и в конце сороковых, когда по шляпку забивалось все, мало-мальски торчащее над уровнем плинтуса: он написал тогда роман «Борьба за мир» и получил за него Сталинскую премию. Этого романа я уж нигде не достал: наверное, те, кто хранит его дома, не готовы расстаться с такой реликвией, а в библиотеку за ним ездить — времени жаль. Но «Бруски» в самом деле отражают стремление отнюдь не бездарного человека писать плохо, совсем плохо, еще хуже — картина получается трогательная и поучительная.
Сюжета как такового нет, то есть линий много. Очень такое роевое произведение, структурно повторяющее русскую жизнь, как ее трактовали конструктивисты. Возьмем Эйзенштейна: во все кинохрестоматии вошла сцена поглощения немецкой «свиньи» русской кашей, роевой массой, бесструктурной, но бессмертной органикой. Структура есть смерть, начало и конец, линейность; инженер, каким его рисовали Платонов (в прозе) и Кандинский (в графике), есть дьявол. Копыто инженера. Россия — каша, субстанция вязкая, глинистая, сырая, неоформленная, но липкая и живучая. Весь панферовский роман, если уж анализировать его образную систему, — апология земли, почвы, глины, грязи, становящейся символом — ну да, жизни! В смысле очищения грязи, ее реабилитации и прямой сакрализации Панферов сделал больше всех коллег: представляю, как эта книга взбесила бы чистюлю Маяковского!
«— Да, трудов тут много, — заговорил Кирька, протягивая руку Плакущеву, но тут же, заметя, что она в грязи, отнял ее за спину.
— Ты давай, — Плакущев с восхищением сжал в своей ладони грязную Кирькину руку. — Вот союз с землей давай учиним, — и второй рукой размазал грязь на узле сжатых рук. — Землей бы всех нам с тобой закрепить».
Читай: замазать.
В каждой главе (а части называются «звеньями», не знаю уж, в честь чего, — цепью, что ли, казался ему собственный роман?) наличествует пейзаж, и в каждом пейзаже — земля, навоз, глина: голос затих вдали, «словно в землю зарылся», куры клюют «перепрелый навоз», в первой же главе — лукошко мякины, и мякина эта сопровождает все действие… Тут не столько желание ткнуть читателя мордой непосредственно в навоз, чтобы знал, так сказать, как трудно дается крестьянский хлеб, — сколько именно такое понимание сельской жизни как липкой, вязкой, сгусточной субстанции; очень много навоза, «дерьма», желудочных расстройств, так что когда узнаешь, что один из героев, поплевав в руки и засучив рукава, «за день обделал сарай», — не сразу понимаешь, что речь идет о достройке.
Не смейтесь, в романе Панферова имеются образы и даже лейтмотивы: правда, огромно и пространство этой книги — она размером с «Тихий Дон» и, думаю, писалась отчасти в ответ ему, в порядке соревнования. В этом нет еще ничего ужасного, писатель должен равняться на лучшее, а не на усредненное, но именно в сравнении с «Брусками» (как и с «Угрюм-рекой», допустим, хотя она не в пример лучше) выступает величие шолоховского романа, чисто написанного, ясного, не злоупотребляющего диалектизмами, почти свободного от повторов; да и потом — у Шолохова герои сильно чувствуют и узнаваемо говорят. У панферовских персонажей все та же каша во рту, словно они раз навсегда наелись земли (тут есть, кстати, красноречивый эпизод, в котором жадный хозяин Егор Чухляв пробует на вкус аппетитную землю тех самых Брусков — спорной территории, которую все хотят захватить). Читатель понимает, что Панферов гонится за правдоподобием, но натурализм тем и отличается от полновесного реализма, что описывает жизнь «как есть», а литература, гонясь за истиной, неизбежно искажает пропорции. Очень может быть, что в реальности поволжские крестьяне выражались именно так, как пишет Панферов, — то есть могли часами обговаривать любую ерунду, несмешно шутить, недоговаривать, косноязычно и криво подходить к основной мысли, — но в литературе это совершенно невыносимо: в «Брусках» вообще трудно понять, что и в какой последовательности происходит. В героях начинаешь путаться немедленно, ибо индивидуальности они лишены начисто: мы помним, допустим, что один старик лысый, а у другого главарь банды бороду повыдергал, а у бывшего подпольщика Жаркова, приехавшего устраивать коллективизацию, имеются непременные очки. (Этот Жарков вообще со странностями: он все время что-то пишет в записную книжечку, писатель, мля, и среди прочего, например, такое: «Интересна фигура Кирилла Ждаркина. Больших работников дает Красная Армия».) Мужики разговаривают примерно так — и это еще на собрании, с трибуны, дома-то с родичами они вообще с полумычания друг друга понимают: «Обмолот показан не сорок, а двадцать пудов. Это ли не обида? Как дурочка-баба — пять пирогов в печку посадила, а вынула шесть, сидит и плачет: горе какой! С такой обиды умрешь. Да кроме того, машиной ему удалось помолотить. Хлеба нет, а машину молотить взял — это тоже обида?! А мы вот не обижаемся, рады бы по-вашему обидеться — машиной помолотить хлеб, да вот нет такой возможности обидеться — цепами и то нечего было молотить». Шесть «молотить» на пять строк — знатно молотит панферовская молотилка, много намолотила, такого обмолоту четыре тома, и молотил бы дальше, кабы не начала молотить война. Видите, как прилипчиво? О какой речевой характеристике тут говорить — выделяется лишь пара городских, выражающихся более-менее книжно. Впоследствии этим приемом воспользовались Стругацкие: не знаю, читали ли они «Бруски», но Панферов же был не одинок, у половины тогдашних авторов поселяне выражались велеречиво и нечленораздельно — точно как мужики в «Улитке на склоне»: на этом фоне речь Кандида выглядит эталоном ясности и простоты. Только у Стругацких мужики все время повторяют «шерсть на носу», а у Панферова — «в нос те луку». Присказки тоже общие на всех.