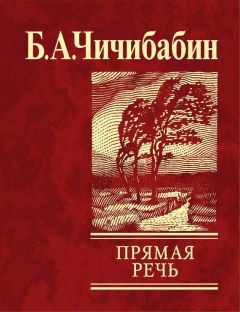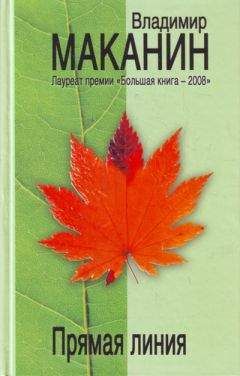Литературная Газета - Литературная Газета 6558 ( № 27 2016)
– - Философию вы переводите как «любомудрие».
– Ну, это не только я.
– Просто чаще всего «философию» переводят как «любовь к мудрости», согласно словарям. Но в российской истории были «архивные юноши», которые называли себя любомудрами. Туда входили и князь Одоевский, Тютчев, Веневитинов. Считаете ли Вы себя их идейным наследником?
– Наверное, да. Но обществу любомудров наследовали и (многие этого не осознают) – обэриуты. Эта линия, вероятно, идет и ко мне.
– А как Вы относитесь к творчеству Хармса, Введенского, Заболоцкого?
– Замечательные поэты! Поскольку Хармс и Введенский погибли, то Я особенно подчеркиваю значение творчества Заболоцкого. О нем я написал эссе, оно есть в сети – называется «Только лепет и музыка крыл».
– Известно ведь, что Заболоцкий пережил своего рода эволюцию. Вам ближе Заболоцкий – автор «Столбцов» или поздний Заболоцкий, периода «Последней любви»?
– Мне близок Заболоцкий и тот, и другой. На самом деле, Николай Алексеевич внутренне един.
- В чём, по-вашему, причина его, скажем так, стилистической трансформации?
– Потому что он исчерпал ту манеру и открыл то, что таилось в ней. На самом деле его поэзия та же и то же мироощущение. «Только лепет и музыка крыл» – было и в «Столбцах». Это ощущение мира как музыки. Думают, что Заболоцкий – последователь Федорова и так далее. На самом деле, Заболоцкий – поэт трагического исчезновения мира. «Приходят боги, гибнут боги,/ Но вечно светят небеса!», потому что последний его шедевр «Рубрук в Монголии» во многом означает возвращение к «Столбцам».
– Вы писатель, переводчик, преподаватель. Делясь своим опытом, показывая новым поколениям красоты литературы, вы её тайну постигли?
– Вы знаете, я не очень люблю слово «литература», как и Верлен. Я создал новый перевод его стихотворения «Поэтическое искусство», оно кончается такими строками: «Стих – озаренье балагура. Так ветер запахами пьян, минуя мяту и тимьян. Иначе, всё – литература». Вот «всё – литература» – это меня не привлекает. Я считаю, что моя стихия – это поэзия. Кстати, проза – тоже поэтический жанр. Что касается моей жизни, я могу дать такой совет: работайте. Я всю жизнь только работал. И должен сказать, что мои усилия всегда находили понимание окружающих, которые берегли меня. Я не переживал тех тяжёлых конфликтов, о которых обычно говорят, если речь заходит о двадцатом веке. По-моему, основная особенность поэзии – оказывать воздействие. Для меня поэзия – разновидность магии и сказки, и в этом смысле всегда находились люди, которые на это воздействие откликались, поддерживали меня и давали мне возможность работать. И продолжают помогать. Прежде всего это моя дорогая жена, но и немало других людей, которые живут вокруг меня, которые меня читают. Я чувствую их поддержку и продолжаю работать.
Беседу вёл
Владимир АРТАМОНОВ
Сердечно поздравляем В ладимира Борисовича с юбилеем!
Нездешней причастные силе
Нездешней причастные силе
Литература / Литература / Поэзия
Микушевич Владимир
Теги: литература , поэзия
Смерть Хемингуэя
Словно последний вздох,
Растаял ветер в сумраке трав.
Врасплох застигла меня тишина,
Биение пульса прервав.
А до сих пор за часом час
Бесперебойно в сердцах у нас
Работал телеграф.
От залпов звёздное небо рвалось,
Как недописанный лист.
Но вот опоясала землю строка,
Заглушая скрежет и свист.
Под пулями, не торопясь,
Прерванную восстанавливал связь
Раненый телеграфист.
«Прощай, оружье», – выстукивал ключ.
Взрывался газетный подвал.
Переходили сердца на приём,
Бежал по нервам сигнал.
И кто-то жертвовал собой,
Поскольку за правое дело в бой
Знакомый голос позвал.
Расстрелами заглушена
Поступь интербригад.
На севере, в тусклой промозглой тьме
Исчез последний солдат.
Идёт холодная война.
Поди, разберись, чья в этом вина,
Кто прав и кто виноват.
Не знаешь? Тогда под ногами земля
Дремлет, как динамит.
Легли на плечи к тебе облака
Тяжелее могильных плит.
Пишущая машинка молчит.
Узнали Гавана, Париж и Мадрид,
Что телеграфист убит.
Ружьё стреляет в тебя само,
И ты уходишь от нас.
Уходишь, не оставив письма,
Не дописав рассказ.
Нам остаётся твой портрет
И в недрах мозга – светящийся след
Твоих телеграфных фраз.
1963
Электрички
На спевке и на перекличке
Знакомым под стать голосам
Весь век электрички-сестрички
Кликушествуют по часам.
Бывало, когда рассветало,
Зальются певуньи навзрыд,
Как будто под каждою шпалой
Солдат неизвестный зарыт.
Не с запада и не с востока
Слезами слова потекли:
«Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали…»
Мотив опасался погони,
И всё-таки был он таков,
Что слышался в каждом вагоне
Аккомпанемент медяков.
Не Собинов и не Карузо
Взлелеяли нынешний стих.
Моя захолустная муза
Уроки брала не у них.
Кормилец, поилец, добытчик
С дырявою кепкой в руке,
Слепой соловей электричек
Прошёлся по каждой строке.
1965
ЛОРЕЛЕЯ
Похожие на конвоиров,
Деревья стояли вдали.
Траншею в сугробищах вырыв,
Там пленные немцы прошли.
И мы на большой перемене
Увидели через забор,
Как топчут сутулые тени
Строительный щебень и сор.
Смотрели мы, глаз не спуская
С не наших в сожжённом саду.
Так праведник смотрит из рая
На грешные души в аду.
Осколками вспахано поле.
Рассвет к маскировке привык.
Зачем же мы всё-таки в школе
Проходим немецкий язык?
И звонкий мой голос трепещет
Среди подмосковных руин:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin*.
И сразу же вместо ответа
Поверх долговязых лопат
Оттуда со скоростью света
Один – человеческий – взгляд.
Нездешней причастные силе,
Вернулись мы в школу бегом,
Не зная, что мы победили
В сражении первом своём.
1969
_____________________
* «Не знаю, что бы это значило, почему я так печален» (Генрих Гейне).
АВТОПОРТРЕТ С ПОРОСЁНКОМ
Разучились мы бояться крови,
Потому что мясо на прилавке,
Не в лесу, не в поле и не в небе,
Не в хлеву, где тоже были души.
И когда под небом ненаглядным
Мы в ботве под бомбами братались,
Словно в яслях, в бороздах дремучих
Прятался со мною поросенок,
Правнук вепря, – в зелени мясистой
Тело человеческого цвета.
Яшку на веревочке водил я.
В огороде по своей природе
Поводырь и пастырь – однолетки.
И когда соскальзывал ошейник,
Уши трепыхались поросячьи
В луковом аду, в раю капустном,
Якобы съедобные хоругви.
Год голодный, год бомбоубежищ.
Этот визг до белого каленья,
Чтобы до седьмого поколенья
Откликаться каждой каплей крови.
1970-е годы
ПАМЯТНИК
В музейной рухляди была забыта лира,
Забыта Библия среди сожжённых книг,
А я себе в мой век не сотворил кумира
И памятник себе поэтому воздвиг.
Готовый предпочесть изгнанью заточенье,
Гонений избежав и не снискав похвал,
Уединение и самоотреченье
Соблазнам вопреки я смолоду избрал.
И не участвовал я в повседневном торге,
Свой голос для других в безвременье храня;
Кретьен, Петрарка, Свифт, Бодлер, Верлен, Георге,
Новалис, Гельдерлин прошли через меня.
В готических страстях и в ясности романской
В смиренье рыцарском, в дерзанье малых сих
Всемирные крыла культуры христианской –
Призвание мое, мой крест, мой русский стих.
Останется заря над мокрыми лугами,
Где речка сизая, где мой незримый скит,
И церковь дальняя, как звезды над стогами,
И множество берёз, и несколько ракит.
В России жизнь моя – не сон и не обуза,
В России красота целее без прикрас;
Неуловимая целительница муза,
Воскресни, воскресив меня в последний час!
1977
Почему учебники литературы не учат любить литературу?