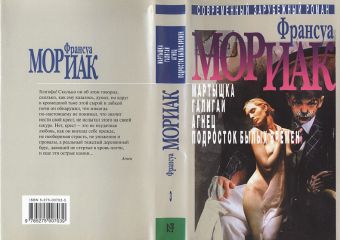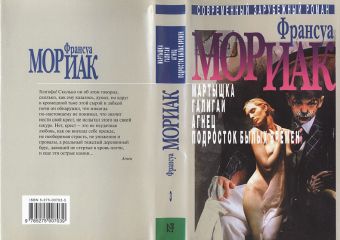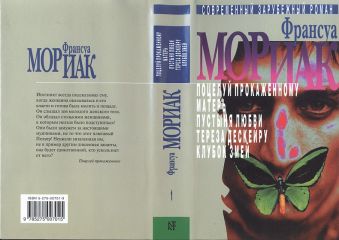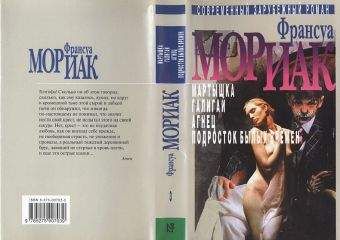Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
И я, действительно, пока еще не любил. Тщетно стараюсь я отыскать в своем мальчишеском прошлом страсти, подобные тем, что многие, по их уверениям, испытали задолго до половой зрелости. Кроме любви к матери, я не помню никакой иной любви. Правда, моя совестливость породила во мне привычку отгонять некоторые мысли. Этот ужас перед «дурными мыслями» выражался в том, что лицо мое подергивалось, я делал гримасу или мотал головой, говоря «нет» греху.
Человек, детство и отрочество которого прошли безгрешно, иногда вопрошает себя, какую выгоду извлек он из этого целомудрия. Он ничего не выиграл тем, думает он, что дольше многих других носил брачную одежду; была ли его жизнь в конечном счете чище? Кто знает, не сделались ли искушения и вожделения от этого лишь сильнее?
Но в один прекрасный день человек, смеявшийся над своей первоначальной чистотой, сетовавший о своей излишне сдержанной молодости, вспоминает после жизненных неудач о родительском доме. Он спешит в обратный путь, не смея поверить, что столь давняя привычка к злу позволит ему принять закон, который бог-отец налагает на своих детей. Слишком многим призывам он внимал, слишком тяжкие сны познал. Это иго, пусть даже самое сладостное из всех, думает он, способно лишь отпугнуть немощное сердце. Но вот чудо: под толстой корой каждодневных заблуждений родниковая вода детства сохранила свою чистоту; в открытое милостью божьей русло (как после взрыва перемычки) устремляется мощный поток, вновь даруя кающейся душе сразу все: вечернюю молитву, причастие на заре, одержимость стремлением к чистоте и совершенству.
«Сколько себя помню, я никогда не был чист». Это признание самое грустное из всех, какие я когда-либо слышал. Но даже у того, кто мне его сделал, была своя пора непорочности — хотя бы за чертой воспоминаний. В самом опустившемся из людей живо детство, оно неуничтожимо и в любую минуту может воскреснуть; жива та часть его самого, которая не изведала испорченности. Сколько раз сквозь поблекшие черты перед нашим взором проступало это навсегда погребенное целомудрие! Случается, что заповедь Христа: «Если не обратитесь и не будете как дети...» * — звучит в нашей душе в своем более узком смысле: «Если не обратишься и не станешь как тот ребенок, каким был...»
V
Гран-Лебрен. Пробуждение. Огонь. Маршрутка. Ученик.
За тем ребенком, каким я был, я устремляюсь теперь в выложенные черно-белыми плитами коридоры Гран-Лебрена, коллежа, сокрытого в недрах моего прошлого, крошечного мирка, где в годы ученья я заранее пережил пору зрелости, играя с уменьшенными моделями своих будущих страстей. Небо, подернутое дымкой, платаны в саду, перерыв между уроками в четыре часа, запах вечерних классов... Странный мир, в котором были свои законы, суеверия, победы и катастрофы. В этом мире сердца трепетали от любви к богу и к его созданиям. Католическая литургия диктовала жизни свой ритм, подгоняя его к ритму времен года и сообщая некоторым дням торжественную атмосферу траура, надежды или радости.
Гран-Лебрен всегда в моем сердце, но мне в его сердце места нет. Жан Жироду * председательствовал на раздаче наград в лицее, гордостью которого он является; братья Таро * были удостоены той же чести в Перигё. Мне следует распрощаться со всякой надеждой: я никогда не побываю на подобном торжестве. Однако хочет того Гран-Лебрен или нет, он — моя собственность, и ничто его у меня не отнимет. Я могу повторить ему самые проникновенные слова, которые когда-либо произносил любовник: «Коли я люблю тебя, что тебе до того?» 1 Гран-Лебрен, как и все, что любимо, ничего не способен понять в чувстве, которое вызывает. Я закрываю глаза, я воскрешаю в памяти один день, взятый наугад из всех минувших дней той поры, когда Гран-Лебрен составлял мою жизнь.
1 И. В. Гёте. Годы учения Вильгельма Мейстера. — Собр. соч. в 10-ти т., т. 7. М., «Худож. лит.», 1978, с. 197. (Пер. Я. Касаткиной.)
В те сумрачные зимы на дворе еще было темно, когда в половине шестого слуга Луи Ларп стучал ко мне в комнату. Тогда считалось естественным, чтобы лакей вставал в пять часов. При свете лампы Пижона * я, лязгая зубами, поднимался с постели: в наших спальнях никогда не топили — не из экономии и даже не из стремления к аскетизму, а из соображений такого рода: «К тому времени, когда воздух прогреется, дети уже успеют умыться и одеться...» Тогда никому из нас и в голову не приходило, что во всех комнатах температура может быть одинаковой. Кроме столовой, где сутки напролет тлели угли в жаровне, огонь поддерживался только в комнате моей матери и в семейной гостиной. По вечерам мы теснились вокруг очага, движениями и позами напоминая первобытных людей; возможно, отблеск того пламени до сих пор таится в глубине наших глаз, но вы тщетно пытались бы обнаружить его во взгляде нынешних детей, которым только и остается, что жаться к радиаторам. Устав от чтения, я садился на корточки у огня и без устали воображал себе охваченные пожаром города, пылающие врата ада, преисполненные надежды муки чистилища, откуда я, орудуя каминными щипцами, выпускал спасенные души, разлетавшиеся фонтаном искр. Моя мать так любила огонь, что на ногах у нее оставались следы ожогов; она называла себя пожирательницей огня.
Но в той предрассветной мгле, когда меня приходил будить слуга Луи Ларп, благословенный час обретения огня казался мне таким далеким! Передо мной простирался нескончаемый день, преисполненный кознями и ловушками, и мои мучения начинались с того, что я всовывал свои распухшие, местами обмороженные ступни в сырые от дождя башмаки. Туалет не занимал много времени: чтобы умыться, надо было быть героем. Наспех проглотив какао, мы стояли на посту перед дверью и высматривали «маршрутку»: так называли принадлежавший коллежу омнибус, который собирал по всему городу мальчиков, таких же заспанных и плохо умытых, как мы сами.
В то время мы занимали два этажа в старом величественном особняке на углу улиц Марго и де Шеврю, рядом с «иезуитником» (который Комб * очищал тогда от его набожных обитателей и часовня которого, называвшаяся часовней Марго, всегда была переполнена). Под негромкий звон колокола пустая улица внезапно заполнялась тенями, спешившими к заутрени. Эти старушки, такие же трогательные, хотя и не столь трагичные, как у Бодлера *, едва успевали, должно быть, заколоть свои жидкие волосы и влезть в юбки. Обутые в войлок, они с елейными лицами брели, прижимаясь к стенам. Мы пересчитывали этих святых женщин, называя по кличкам, которыми сами их наградили, и забавлялись так до тех пор, пока грохот колес не возвещал издалека о приближении «маршрутки». В те дни, когда мы опаздывали, она немного замедляла ход, и кучер щелкал кнутом. Но чтобы она не застала нас на нашем наблюдательном посту — такое случалось редко. Мне нравился запах кожи от этой старой колымаги, следовавшей запутанным маршрутом. У меня было добрых полчаса на то, чтобы подремать, закутавшись в пелерину и натянув на голову капюшон, что делало меня похожим на маленького капуцина. Мой взгляд был прикован к крупам першеронов, на которые падал свет от фонаря. Мутный рассвет занимался над пригородом. Жалкие школьные заботы не выходили у меня из головы. Никогда потом я не чувствовал себя таким слабым, обделенным, потерянным. Впоследствии, чтобы вновь почувствовать вкус этих ранних часов моих давно минувших дней, мне достаточно было повторить про себя строки Рембо:
Я вдоволь пролил слез. Все луны так свирепы,
Все зори горестны... 1
1 А. Рембо. Пьяный корабль. Цит. по: Б. Лифшиц. Французская лирика XIX и XX веков. ГИХЛ, 1937, с. 97.
Горестные зори, сумрачный город, стремление бежать. Вот когда для заледеневшего детского сердца поиски бога становятся привычкой. В дождь стекла экипажа, особенно заднее, к которому я прислонялся лбом, напоминали мне залитые слезами лица. На фоне неба чернели силуэты деревьев Гран-Лебрена. Огромное со светящимися окнами здание походило на пакетбот.
Мы попадали в класс, обогревавшийся первыми радиаторами парового отопления; мы погружались в запах пансионеров и кислый, неизъяснимый, но не вызывавший во мне отвращения запах надзирателя. Полчаса на чтение религиозных текстов, затем короткая перемена и, наконец, два часа занятий; еще четверть часа на игры и снова уроки — до полудня. В половине второго работа возобновлялась и продолжалась до половины седьмого с одним получасовым перерывом на полдник. Половина седьмого! Мгновение, которое даже сейчас, спустя четверть века, сохранило для меня сладостный привкус освобождения. Правда, во время долгих вечерних занятий я больше не чувствовал себя несчастным. Миг возвращения домой был близок, мне ничто больше не угрожало. В те долгие часы, которые можно было посвятить приготовлению домашних заданий, я вел дневник или сочинял стихи. Потребность писать овладела мною очень рано: в этом я находил избавление. Чего бы я ни отдал, чтобы вернуть тайные тетради отроческой поры, которые имел глупость сжечь! Сквозь оконные стекла мой взгляд устремлялся к небу. Иногда, отпросившись в уборную, я получал возможность выйти из класса. Не торопясь, шел я по пустынному двору, вдыхая тьму, пахнущую гнилыми листьями, туманом, хотя к этому своеобразному запаху пригорода примешивалось какое-то городское зловоние. В тот период жизни «безмолвье вечное просторов бесконечных» * если уж не пугало меня, то по крайней мере являлось для меня реальностью, и я воспринимал его без труда. Мглистое небо — и то было для меня средством бегства от действительности; я использовал любую лазейку, через которую мой взгляд и мысль могли вырваться на простор. Вероятно, я, сам того не сознавая, пребывал тогда в состоянии поэтического транса, стремясь преобразить все, что составляло мою жалкую жизнь. То была пора, когда меня начали окружать поэты, служа мне, как служили в пустыне ангелы сыну человеческому. Между реальностью и собой я воздвиг барьер из всей лирики прошлого столетия. Ламартин, Мюссе и Виньи вошли в мою жизнь первыми, но я научился находить изумительные по красоте строки и у современников, вплоть до Сюлли-Прюдома * и Самена *! Верлен, Рембо, Бодлер и Жамм * появились лишь по окончании коллежа.