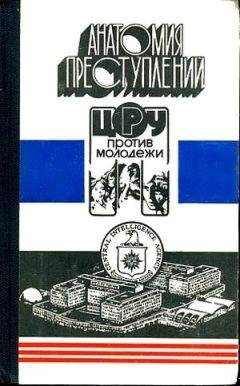Анатолий Левандовский - Первый среди Равных
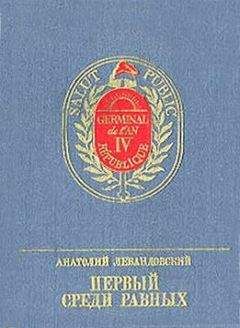
Обзор книги Анатолий Левандовский - Первый среди Равных
Анатолий Левандовский
Первый среди равных
Повесть о Гракхе Бабёфе
(1760–1797)
Пролог
Над Европой стояла удушливая ночь реакции. Венский конгресс расчленил многолетнюю добычу Наполеона согласно требованиям союзников, а Священный союз поставил крест на робких попытках народов вернуть свой попранный суверенитет. «Система Меттерниха» с её жандармерией, тюрьмами и тайными доносами проникала всюду, сковывая людей цепями безмолвия. То тут, то там мрачную тишину нарушали залпы расстрелов. Свобода, драпируясь в окровавленные лохмотья, уходила в подполье. Франция склонилась под скипетром лукавого старца Людовика XVIII, дожидаясь лучших времен. Все те, кто ещё так недавно дерзал, сражался, творил или управлял, теперь спешили укрыться в чужих краях.
Центром эмиграции стал Брюссель, столица Бельгии. Впрочем, теперь Брюссель уже не был столицей, поскольку не было больше и самой Бельгии: решением Венского конгресса она превратилась в часть Нидерландского королевства, призванного, по мысли английских дипломатов, стать «щитом Британии», прикрывающим её с юго-востока. Но как бы там ни было, политические эмигранты предпочитали Брюссель другим городам — он был и близок к «милой Франции», вестей откуда все ждали с постоянным нетерпением, и славился своим либерализмом, позволявшим уживаться бок о бок людям различных политических убеждений.
2Действительно, здесь образовались как бы несколько замкнутых эмигрантских кругов, каждый из которых сторонился других, а местная администрация, равнодушная к интересам чуждых ей лиц и групп, не вмешивалась в их взаимоотношения, довольствуясь более или менее бдительным надзором за соблюдением предписанных правил.
Элиту эмиграции составляли наполеоновские бароны, графы, префекты и министры. Эти господа презирали всех, кто не был аристократом или крупным чиновником во времена Консульства и Империи. Прогуливаясь по аллеям Королевского парка, они держались так, словно золотые эполеты и аксельбанты всё ещё украшали плечи и отвороты их мундиров; они не реагировали на саркастические замечания и насмешливые взгляды тех, кого величали «чернью», — для них подлинно сущим оставались лишь былое величие Империи и их собственные роли, когда-то сыгранные и навсегда утраченные после 1815 года.
«Чернь» платила им подобным же неприятием и презрением. Бывшие сановники Директории ненавидели режим Бонапарта не в меньшей степени, чем режим Реставрации, а бывшие депутаты Конвента и служащие Революционных комитетов смотрели на правивших вслед за ними, как на изменников и политических оборотней.
Но и внутри каждого круга существовали свои противоречия.
Наполеоновские чиновники и генералы спорили о том, кто из них в прошлом являлся более достойным высокого поста или синекуры. Вспоминая былые обиды, прежние «монтаньяры» постоянно пререкались с «лидерами Жиронды», или «болота»; слова же «дантонист», «робеспьерист» или «эбертист» зачастую снова слышались среди тех, кто считал себя основателями Революционного правительства 1793–1794 годов.
Все эти тени прошлого жили иллюзиями. Одни из них писали мемуары, стремясь обелить себя и очернить своих соперников; другие, никому не признаваясь в этом, надеялись на милость «христианнейшего» короля Людовика XVIII; третьи, пробавляясь сплетнями и слухами, норовили желаемое принять за реальное. И лишь совсем немногие, оставаясь равнодушными к праздной болтовне, продолжали дело, которому служили в прежние годы.
3К числу последних принадлежал и художник Жак Луи Давид.
Нет, в годы эмиграции он не был борцом и не ходил на тайные собрания, он просто не расставался ни на день с тем, чем жил всегда, — с любимым творчеством.
Революционер в искусстве и в политике, организатор всех выдающихся народных празднеств Республики и член Комитета общей безопасности, готовый «выпить цикуту» вместе с Робеспьером, он и на чужбине остался великим Давидом. Правда, после трагедии термидора, многих месяцев тюрьмы и фейерверка Империи изгнанник-«цареубийца»,[1] оторванный от родины и от учеников, уже не создаст ничего равного по силе и известности «Клятве Горациев» или «Смерти Марата». Но его новые картины на мифологические сюжеты восхитят сотни новых поклонников, а иные из портретов, созданные живописцем в брюссельский период, и сейчас покоряют художественной зрелостью и глубиной проникновения в духовный мир человека.
В Брюсселе Давид написал своих бывших земляков, как и он, «цареубийц», — Алькье, Ромеля и пользовавшегося широкой известностью аббата Сиейса.
Портрет Сиейса представляется особенно примечательным.
4В верхнем правом углу этого полотна Давида каролингскими маюскулами[2] в гольбейновской манере написано: AETATIS SUAE 69.[3] Но никто из видевших портрет не даст изображенному на нем столь преклонных лет.
Прямо на зрителя смотрит довольно тщедушный человек, очень белокожий, сидящий в кресле заложив ногу за ногу. Его руки, покоящиеся на подлокотниках, энергичны и цепки. Лицо не назовёшь приятным, но оно запоминается. Узкое, худощавое, лишённое морщин, оно увенчано короткой, чуть вьющейся рыжеватой шевелюрой; густые брови того же цвета; массивный прямой нос; асимметричные умные глаза с выражением какого-то брезгливого скепсиса; это впечатление подчёркивают и узкие, плотно сжатые губы. Тёмный костюм Сиейса предельно прост: никаких украшений, никаких лишних атрибутов, способных отвлечь внимание от главного. Столь же прост и фон, точнее, он пуст, однотонен. Лишь из-за спинки кресла чуть проглядывает неяркий свет, окружающий как бы слабым ореолом фигуру сидящего…
…Эмманюэль Жозеф Сиейс… Вряд ли есть лучший портрет этого многоликого политика в старости. И — таково величие таланта художника — изображение это не создаёт впечатления ни старости, ни покоя, оно замечательно проецируется на весь предшествующий, весьма беспокойный жизненный путь Сиейса.
Прославившийся на заре революции своей брошюрой «Что такое третье сословие?», один из главных лидеров Генеральных штатов и Учредительного собрания, он вдруг словно исчез, растворился в «болоте» Конвента. Шли самые горячие месяцы и дни революции. Партии и группировки низвергали и повергали в прах одна другую. Прославленные ораторы и вожди, ещё вчера гремевшие с трибуны Конвента, сегодня склонялись под ножом гильотины.
— А вы что делали в это время? — много времени спустя спросил кто-то Сиейса.
— Я жил, — спокойно ответил Сиейс.
Но этот циничный ответ был полуправдой. Сиейс не только жил — он действовал, действовал энергично, но тайно. Не зря член Комитета общественного спасения Бертран Барер в сердцах назвал его «кротом». В начале 1794 года существовали как бы два Сиейса. Депутат Конвента Сиейс, вокруг которого бушевали страсти, с брезгливой миной на тонких губах, молча демонстрировал полное безразличие к происходящему. А в это же время «крот» Сиейс рыл землю, рыл упорно, пока не добрался до недр Революционного правительства… с тем чтобы разложить и уничтожить его. Вкравшись в доверие к Робеспьеру, он стал затем его тайным врагом и одним из главных режиссёров трагического спектакля 9 термидора… После чего снова канул в безвестность, чтобы снова рыть землю ради следующего взлёта. Не последний из авторов и исполнителей переворота 18 брюмера, Сиейс пробрался к самой вершине, сделавшись одним из трёх консулов, составивших высшую исполнительную власть в государстве… Правда, в отличие от Робеспьера, Бонапарт быстро его раскусил и поспешил устранить от дел. Но тот же Бонапарт был достаточно умён, чтобы не обойти бывшего коллегу почестями и богатствами, вплоть до производства в графы Империи… Лишь вторая Реставрация заставила померкнуть звезду Сиейса, принадлежавшего (на всякого мудреца довольно простоты!) к той же категории «цареубийц» и вследствие этого вынужденно очутившегося в Брюсселе.
Сиейс имел доступ во все круги брюссельской эмиграции: он ведь был и депутатом Конвента при Революционном правительстве, и членом Совета пятисот при Директории, и главой исполнительной власти при Консульстве, и сановником при Империи. Но именно поэтому он счёл возможным не связывать себя ни с одним из кругов, а держался обособленно и молчаливо, сохраняя все ту же брезгливую мину, и, по мнению многих, продолжал тайно «рыть землю»… Впрочем, кто мог знать подлинные замыслы этого коварного политика? Но художник Давид гением своего искусства частично разгадал его тайну и чуть приоткрыл её на своем полотне 1817 года…
5Странно, что великий художник в брюссельский период создал портреты лишь тех, с кем был весьма мало связан в прошлой жизни, и оставил без внимания других, казалось бы, самых близких ему в годы Революционного правительства.