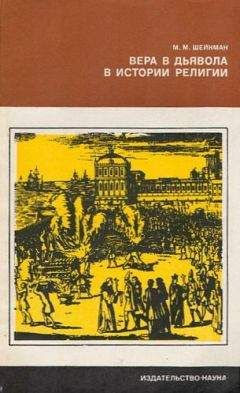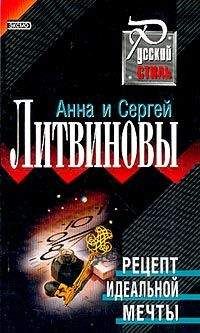Вера Павлова - Интервью

Обзор книги Вера Павлова - Интервью
Танцую одна
Некоторые считают, что она — литературная мистификация. Что ее не существует в природе. Вера Павлова не подпускает к себе журналистов. А нам так давно хотелось с ней побеседовать… И тут выяснилось: в "Огоньке" работает ее муж. Главный редактор вызвал его к себе и сказал: "Михаил! Идите и возьмите у Веры интервью!" И Михаил пошел… А куда ему было деваться?!
Служебная запискаРедактор! Я выполнил твое поручение… Боюсь, интервью тебя разочарует. Вера не захотела говорить про то, что вызывает наибольшее любопытство. Про то, насколько автобиографична ее любовная лирика. Про ненормативную лексику в ее стихах. Про то, как ее узнают всякие козлы в троллейбусе и дарят свои пародии. Про то, феминистка ли она, что думает о певице Земфире, Кастанеде и Александре Петровиче Никонове и как понимать ее стихи: "Во мне погибла героиня/во мне погибла балерина/во мне погибла негритянка/во мне погибла лесбиянка/как много их во мне погибло!/И только Пригов жив-здоров". Не захотела рассказывать, как в Санкт-Петербурге, на Конгрессе поэтов, прочла эти стихи Пригову — и Дмитрий Александрыч без тени улыбки сказал ей: "Смешно"… Вера не захотела публиковать в "Огоньке" отклики на ее книги академика Гаспарова, Юза Алешковского и Владимира Сорокина… Боюсь, она за все, мною выше сказанное, применит санкции. Вера не хочет говорить ни о чем — кроме того, что ей кажется важным в данный момент, цитируя своего любимого Мартина Бубера: "Интересное не важно". Редактор, она молчит иногда часами! Наши дети называют это: "Мама в простракции"! Каждое утро залезает она в кипящую ванну, после чего записывает два-три стишка. Два-три дня не записывает — болеет… Но даже то, что я смог из Веры выжать, а при чтении расшифровки наших разговоров отстоять с боем, для меня — подвиг Пятачка! Так что, редактор, прими Веру Павлову такой, какова она есть. И не забудь про меня…
Михаил ПОЗДНЯЕВ
— Вер, ну и как тебе ситуация?
— Какая?
— Муж берет интервью у жены, используя семейное положение в служебных целях.
— Ситуация, конечно, двусмысленная… с житейской точки зрения. Но с точки зрения жанра… Гораздо двусмысленнее искренне отвечать на "последние вопросы" незнакомому человеку. Знаешь, у меня такой был стишок — вернее, фрагмент недописанный:
Никогда не буду давать интервью —
это ниже моего до.
Никогда не буду брать интервью —
это выше моих си.
Потому что моих вопросов мне
не сможет задать никто.
А у меня к никто один вопрос —
да только поди спроси…
Но тебе дам. Только тебе. Моногамия!
— Про матерные словечки в твоих стихах говорить будем?
— Не будем.
— Но ведь это многим интересно!
— Не интересно.
— Давай тогда поговорим на проклятую тему "Эротическая поэтесса Вера Павлова". По-моему, ты стала менять отношение к стихам, которые тебе навязывают в качестве твоего кредо.
— Первые мои эротические стишки были записками от того, кто проснулся раньше, к тому, кто еще спит. Знаешь, как самурай, придя со свидания, тут же писал возлюбленной записку, привязывал к цветку, и посыльный относил прекрасной даме цветок со стишком: "Как было классно!" То есть это были письма даже не в соседнюю комнату, а на соседнюю подушку… А потом открылось, что тема таит огромные вокальные возможности. Как ставится голос, знаешь? Голос опускается все ниже, и дыхание ставится на диафрагму — как говорят вокальные педагоги, "опирается на матку".
Эротическая лирика — опора на матку. Только и всего.
Благодаря этому голос очень выигрывает в тембре. Чем больше у тебя резонирует все тело, в идеале даже пятки и каждый волосок, тем богаче голос красками. Сейчас, задним числом, я понимаю, что происходило. Я распевалась на этой теме. И в какой-то момент, когда зазвучали пятки и волосы, эта тема стала мне уже не нужна. Равно как человек, который прокричался грудью, может звук в нёбо направлять, я могу в небо направлять звук. Я бы этого не смогла делать, если б не распелась на эротике.
— Ни на чем другом не могла распеться?
— Думаю, никто бы не мог. Пушкин зря от "Гавриилиады" отказался — он тоже на этом распевался. Не опустив дыханья, как ни странно, не возьмешь высоких нот…
— Но у тебя такая репутация… Как товарищ Жданов сказал про Ахматову: "Полумонахиня-полублудница". С одной стороны — "эротическая поэтесса". А с другой стороны — на тусовках не светишься, стихи отдаешь в редакции, только когда просят… Но тебе ведь небезразлична "обратная связь", да?.. Помню, в декабре 95-го на вопрос: "Что бы ты хотела получить в подарок на Новый год?" — ты ответила: "Письмо от Бродского". Через три недели Бродский умер. "Письмо от Бродского" — это спонтанный ответ или программное заявление?
— Тут свою роль сыграл почтовый глагол "получить". "Письмо от Бродского" означает "Ничего". Формула невозможности. К несчастью, формула оказалась доказана судьбой… Хотя письмо я все-таки получила. Под подушкой нашла. Лиза (ее младшая дочь. — М.П.) на машинке напечатала. "Я чэтал тваи стихи они мнеочнь панравелес надеюс и стихи каторые ты пишэш сечаз такиеж хароше маё имя иосеф броцкий". Письмо на языке того света — где грамматика теряет власть… Я вклеила это письмо в дневник.
— А вообще, что такое письмо в наше время, когда никто никому не пишет?
— Моя жизнь стоит, как ты знаешь, на трех китах: дневник, блокнот и письмо. Блокнот, в котором стихи, — посередине, а по бокам — дневник и письмо. И они оттягивают из стихов лишнюю доверительность — и лишнюю документальность. Если нет дневника и некому писать письма, в стихах возникает много лишнего…
— Что же остается в стихах после того, как дневник и письмо "оттягивают"?
— А все то же самое остается. Только на другом уровне.
— Но ты адресата не видишь?
— Вижу. Это я. Осталось сказать, что дневник и письмо — тоже послания себе, и все встает на свои места.
— Хорошо. Тогда получается, что выражение в слове тебе нужно для восполнения чего-то отсутствующего в жизни?
— Нисколько. Нисколько. У тела есть пять чувств для того, чтобы ориентироваться в пространстве, да? А стихи нужны, чтобы ощупывать духовное пространство. У других людей это не стихи. Например, у художника — рука, продолженная кистью… Кто как приспособился. Вот я стихами приспособилась, понимаешь?
— И как ты приспособилась? Когда?
— Лет в восемнадцать.
— Поздно.
— Так до этого я музыку сочиняла, другой был орган ощупывания…
— Он отсох после того, как стихи вдруг пошли?
— Он был перекрыт! Мозолистой рукой Андрюши (ее первого мужа. — М.П.)… Написание стихов — единственный процесс, который можно скрыть от людей. Когда музыку сочиняешь — можно пальцы тебе крышкой пианино прихлопнуть, правильно? Когда рисуешь — можно тебе тушь на бумагу выплеснуть. А когда стихи сочиняешь, никто не видит. Особенно невнимательный муж. В конспиративных целях я и переключилась на этот орган ощупывания…
— А кто первым оценил этот орган?
— Смутно вспоминаю какие-то вечера в Гнесинском институте… Да, я ж еще ходила к Игорю Волгину в его литобъединение в МГУ! Но это уже при Павлове (ее втором муже. — М.П.)… И там какие-то первые ободряющие слова услышала. Тогда я довольно серьезно относилась к своим стишкам.
— И из них ни одно в книжки не вошло…
— Да потому что там не было ничего… Кроме волнения. Знаешь, как, по Юнгу, отличить правильное толкование сна от неправильного? Когда находишь правильное толкование, сильнее сердце бьется, дыхание учащается. В двадцать лет сочинение стихов у меня сопровождалось таким состоянием. То есть меня толкали на этот путь…
— Кто толкал-то?
— Ну, просто организм все время подтверждал: "Да! Да! Да! Это! Это!" — хотя слов еще не было… Но музыка была-а-а.
— Все-таки желание, чтобы тебя услышали, существует? Нет?
— Оно все меньше и меньше становится.
— Сейчас я тебе буду пошлости говорить: это, может, связано с тем, что отклик приходит к тебе достаточно поздно? Ахматову, Цветаеву, Ахмадулину в восемнадцать лет услышали…
— Нет, с этим не связано. У меня все в жизни очень вовремя. Ты ведь знаешь, я никогда никуда не опаздываю, да? Мне кажется, это распространяется у меня на более длительные отрезки. То есть я знаю тренерское задание: когда должна оказаться в этой точке и когда в этой. И я чувствую, что иду нормально. Не скажу, что на рекорд, но на то время, которое мне задал тренер…
Но я тебе не объяснила, почему раньше хотела, чтобы стихи звучали, а сейчас не хочу. Стихи меня мучат, если я начинаю их читать на публике. Стихи на бумаге — это же партитура: читается глазами и звучит внутри. Как только начинаешь читать вслух, прибегаешь к клавиру, вынуждена упрощать… И голос глушит подголоски!