Глеб Успенский - Статьи
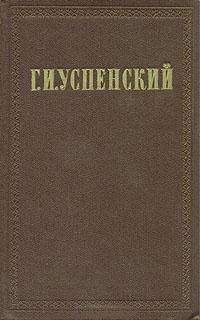
Обзор книги Глеб Успенский - Статьи
Статьи
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕМЕРТ
В марте прошлого года умер в Москве, в полицейской больнице, один из самых крупных, талантливых и умелых работников последнего литературного периода — Н. А. Демерт. Он был взят на улице в припадке полного умственного расстройства, в том состоянии, когда человек не знает, где он, что с "им, куда он и откуда идет.
Что же довело эту сильную, крепкую, здоровую натуру до такого ужасного состояния, что размягчило этот крепкий, сильный мозг? Говорят: "он пил", но мы, лично хорошо знавшие Н. А., смеем утвердительно сказать, что он пил не в силу "порока", который бы был органически врожденным, — он "до смерти работает, — сказал Некрасов про русского мужика, — до полусмерти пьет". Отделять эти два дела, по нашему мнению, нельзя не только в характеристике поведения русского мужика, но и вообще в характеристике всякого русского человека, и тем более человека, который знает, что такое настоящая работа, что такое работа до смерти. Демерт действительно пил, но работал он трезвый, а вспомнить — как много он работал, сколько дней в течение месяца не отходил он от стола! Почему три-четыре дня, остававшиеся ему свободными в течение месяца работы, он отдавал "зелену вину"? Уж не в работе ли, не в ее ли свойстве, не в ее ли размерах и задачах корень гибели Демерта? Что же он делал?
Заимствуем из некролога Н. А. Демерта, напечатанного в 12 No "Отеч з " прошлого года г-ном К., некоторые биографические подробности, которые, мы надеемся, выяснят нам кое-что в отличительных свойствах Демерта как работника. Демерт родился в 1835 году, у него было много братьев, из которых он был самым младшим. "Учился он сначала в Казанской гимназии, потом в Казанском университете, где окончил курс кандидатом по юридическому факультету. Это было примерно в 1858 году. По выходе из университета он несколько лет был домашним учителем у помещика Д.". "По освобождения крестьян — он был мировым посредником первой их серии, причем имел возможность близко узнать тяготы и нужды крестьянского быта, а с открытия земских учреждений стал членом Чистопольского земства, а потом и председателем земской управы. Но долгое пребывание в провинции было ему не по нутру, он стремился в столицы и сначала уехал в Москву, а потом, в 1865 году, появился и в Петербурге". Затем, с 1865 года, начинается его литературная деятельность. Из приведенного отрывка мы просим читателя обратить внимание на цифры, то есть на годы. Что такое было в России в пятидесятых и начале шестидесятых годов, и как то, что было, должно было действовать на бесспорно даровитую натуру Демерта? Освобождение крестьян, новая жизнь, новая эпоха русской жизни висела в воздухе, ждалась миллионами народа, измученного крепостным правом, ждавшего дня освобождения как пришествия мессии. Много ли в эти торжественные минуты было людей, которые, не выжив из ума, нашли бы в себе силы любоваться прошлым? Все, что было на Руси совестливое, — дышало полной грудью широким простором будущего, предвкушением "совершенно новых" условий жизни, все раскаивалось в этом прошлом, а то, что не имело еще времени прегрешить им прямо, на веки веков воспитывалось и закалялось в задачах будущего. Работать для этого бедного народа, служить ему
И сердцем, и (даже!) мечом, [1]
[2]
а если нет меча, то "и умом" — вот была нянькина сказка, колыбельная песня всего, что носило в груди не кирпич, а сердце. А Демерт был "лют" сердцем от природы. Демерт был умен, энергичен, смел, совестлив, честен. У Демерта была "искра божия", и эта искра божия могла в то время освещать только трудную дорогу будущего, другой дороги у Демерта не было.
В биографическом очерке г. К. сказано, что тотчас после окончания университетского курса Демерт некоторое время жил у помещика Д., а потом был мировым посредником. Эти два обстоятельства как нельзя быть лучше и как нельзя быть прочнее определили ему предстоящий труд и как нельзя лучше доказали ему все глубокое значение этого труда. Говорим это на основании личного знакомства с Н. А. и по рассказам этого времени. Помещик Д. не был обыкновенный русский крепостнический кадык.[3] Это был один из привилегированнейших, из крупнейших и богатейших представителей кадыкового направления. Демерт, живя в его доме два года, мог до отвращения наглядеться на всевозможные растлевающие явления, выработанные крепостным правом, на самые лучшие, махровые цветы этого права; образчики прошлого, сконцентрированные в этом доме самым образцовым образом, как нельзя более наглядно и осязательно убедили Демерта в несостоятельности этого прошлого. В доказательство того, что этот дом был "образцовым" продуктом крепостного права, что он пользовался этим правом по всей широте, служил тот факт, что за несколько дней до освобождения в имении г. Д-ва вспыхнул бунт против владельца, — чего, если помнит читатель, почти не было во всей России. Демерт видел все это, видел, как гниль и несостоятельность "прошлого" обнаружились самым поразительным образом и как этот великолепный махровый цвет, этот дорого стоящий плод столетних крепостных трудов, как этот богатый, блестящий, шумный и жирный дом — вдруг, в один день, распался, развалился, исчез с лица земли, как только из— Похоронив в лице этого дома скверное прошлое крепостного права, Демерт, как видели из биографических данных, сообщенных г. К-, почти тотчас же, в качестве мирового посредника, должен был воочию увидеть и собственными руками ощупать язвы крепостного бесправия. Из роскошных палат, "где ни в чем не знали нужды" и полагали задачу жизни в этом нежелании знать что бы то ни было (знать не хочу!), Демерт спустился в разоренные, которые испокон века во всем знали одну только нужду и жили в сознании полного бесправия, полной подчиненности людей, ничего не хотевших знать. Предоставляем читателю судить — какое впечатление должны были произвести на Демерта эти бесправные люди, забитые, голодные, невежественные, бедные и беспомощные, если, с другой стороны, он уже хорошо, как нельзя лучше, знал, что и результаты этих страданий также бесплодны и отвратительны… Русская литература почти не оставила ни в романе, ни в драме, ни в серьезном исследовании ничего, что бы касалось тогдашнего положения народа. Жизнь крепостного народа всегда была сокрыта для русского общества, быть может потому, что и интеллигенция-то русская сплошь состояла из душевладельцев. Не лишним здесь считаю указать на то любопытное обстоятельство, что именно этот-то период жизни русского народа, темный, неведомый в той мере, как бы следовало его знать, так как это был самый безжалостный, самый лживый и самый бессовестный период русской жизни, — этот-то период наилучше всего разработан в иностранных литературах. В одной, например, французской литературе существует бесчисленное множество романов, посвященных этому жестокому времени. Правда, романы эти лишены большею частью литературных достоинств, насыщены трафаретными эффектами маленькой французской прессы, — но они несомненно взяты из жизни, из тогдашней русской действительности. Гувернантки, гувернеры, домашние секретари, управляющие, в таком обилии выписывавшиеся в наши старые помещичьи дома, увозя с собою на родину наши русские деньги (должно, впрочем, не все из них сумели увезти), увозили также и ужас к положению народа, к условиям его жизни, ужас к кнуту, к произволу и тому подобным атрибутам доброго старого времени. Их воспоминания, по всей вероятности, отделывали в форме романа местные парижские трафаретчики, знавшие, каким ребром поставить факты, чтобы они понравились бы читателю-французу. Но, как бы ни были исключительны факты русской жизни в этой громадной уличной литературе о боярах и невольниках, в них высказано много, так много незнакомой нашей литературе правды о положении крепостного человека, что утвердившееся, хотя бы в одной французской толпе, представление о боярах и о России, как о чем-то ужасном, — оказывается вполне законным и понятным.
Да простит мне читатель это отступление. Я хотел сказать им, что все, что родилось вне народа, не имело и не могло иметь о его действительном положении никакого понятия. Знали, что мужик беден и крепостной, знали, что это негуманно, что бывают злодеи управляющие и т. д., но знать действительное положение, знать, всю подноготную народной жизни, все результаты векового бесправия — никто не знал, не видал… Будучи мировым посредником, Демерт стал лицом к лицу с этими плодами бесправия. Не из книг он знал, что народу нужно помочь, как утопающему, а из личного опыта, из страданий по нем собственного сердца, которое само время уже отдало на служение добру.


