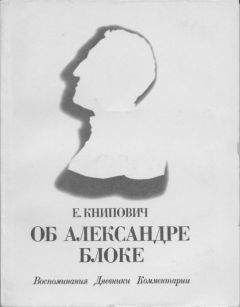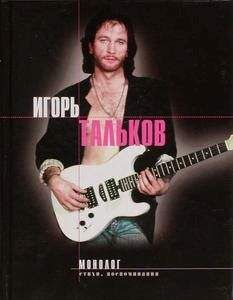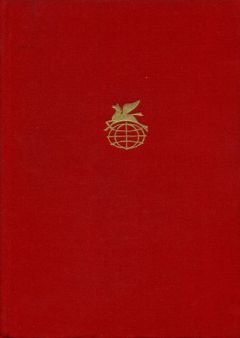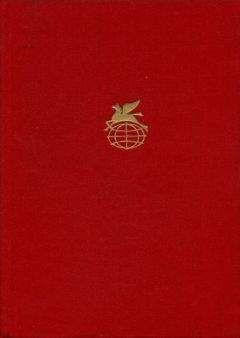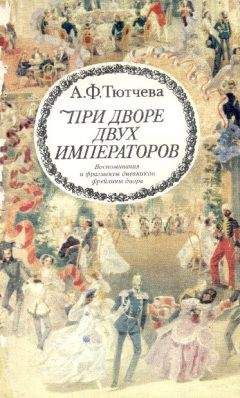Владимир Костицын - «Мое утраченное счастье…» Воспоминания, дневники
К вечеру вернулась С. И. Надеина: на ее глазах были арестованы на Тверском бульваре наши друзья В. И. и О. И. Станкевичи. Нужно было немедленно, до прибытия полиции, побывать у них на квартире и произвести чистку. Мы поехали и успели все сделать вполне благополучно. После этого я вернулся к себе в общежитие в довольно бредовом состоянии.
В университетской хирургической клинике, куда я поехал на следующее утро, профессор Р. О. Венгловский долго колебался, как ему быть с моим пальцем: рентгенография показала семь кусков фаланги. В конце концов он решил не ампутировать: «Я надеюсь, что у вас подживет очень хорошо». Раны на голове не были опасны, на теле – тоже. Записали меня под чужим именем, так как уже было распоряжение полиции сообщить о всех раненых, поступивших в эти дни. Являться [в клинику] я должен был каждый день. Недели через две Венгловский нашел, что все подживает очень хорошо, дал предписания для дальнейшего лечения и разрешил мне уехать в Смоленск.
В Смоленске родители встретили меня с перепугом и с гордостью. Я пробыл там до Нового года и дальше, но после 9 января 1905 года решил ехать в Москву и уехал.
1905 г. Формально занятия в университете возобновились, но на деле их не было. Шло брожение, курсовые совещания. Я принял в этом движении участие.
В один из январских дней была созвана в физической аудитории огромная сходка. Речи, которые там раздавались, еще два месяца тому назад показались бы немыслимыми: учредительное собрание, всеобщее избирательное право («четыреххвостка»[111]), всякие виды свобод. Атмосфера была накалена. Единогласно приняли резолюцию, а для дальнейшего руководства движением было решено избрать, тайно, на каждом курсе, по представителю в центральный университетский орган. Тайное избрание означало, что избранника должен знать только председатель курсовой сходки. На нашем курсе председателем был я, и в теории только я знал о своем избрании; на самом деле, конечно, все догадывались.
Так началось для меня конспиративное существование. Я принял близкое участие в работе центрального университетского органа, но долго мне оставаться в Москве было невозможно. Университет был закрыт на неопределенное время, жить мне было нечем, и я снова уехал в Смоленск. Там я вошел в местную социал-демократическую организацию, в «актив».
Смоленск был городом без промышленности и без пролетариата, но ремесленников и студенчества – очень много. Обыватели были настроены оппозиционно. Готовились выборы в городскую думу, цензовую: голосовать могли только домовладельцы. Тем не менее мы взяли на себя подготовку к выборам и провели ее настолько успешно, что в думе оказалось прогрессивное большинство и даже социал-демократическая фракция. Мой отец тоже прошел в думу и примкнул к этой фракции. Состав ее был очень курьезен: наряду с интеллигентами и «третьим элементом» в нее входил крупнейший купец П. Ф. Ланин, меценат, «благодетель» и самодур, и его сыновья, – ночью все кошки были серы. Вышел он из этой фракции лишь год спустя, когда думская комиссия труда под председательством моего отца приняла новый статут труда для торговых служащих.
Около Пасхи возникли слухи о готовящемся еврейском погроме. Левые партии образовали дружины обороны, и я вошел в эти дружины. Несколько раз мы дежурили в угрожаемых кварталах. Погрома не было: вероятно, благодаря преувеличенным слухам о мощи дружин.
Много усилий нам стоила организация первомайского праздника, и он прошел блестяще. За городом, между Ковалевкой и Александровским, в лесу была приготовлена эстрада для президиума и ораторов. Сошлось несколько сот человек. Говорились речи: от нас – старый социал-демократ доктор Иван Петрович Борисов (муж одной из сестер Барсова), от социалистов-революционеров – Сбитников.[112] После речей пели и с пением разошлись. Я уже был дома, когда по улице прошла рота солдат, и ее командир – капитан Протопопов – зашел к нам, чтобы выпить стакан воды. На вопрос отца, куда он идет со своей ротой, последовал ответ: «А вот изволите видеть, черт бы их побрал, где-то мальчишки поют про 1-ое мая. Ну и пусть поют, а нас вот с утра гоняют по окрестностям: посмотрите на солдат – мученики; а посмотрите на мои сапоги».
Для более детального изучения теории был образован философский кружок под руководством старого меньшевика Пилецкого. Было очень курьезно: Пилецкий, будучи философски ортодоксален, противопоставлял Энгельса и Плеханова новым веяниям – Богданову, Маху, Авенариусу. Это было бы хорошо, но он вносил фракционный дух, утверждая, что махизм и эмпириомонизм – большевистская философия. Это было неверно, но книга Ленина появилась несколькими годами позже,[113] а в эти годы эмпириомонизм и статьи Богданова в левых легальных журналах[114] встречали большое сочувствие среди молодежи. Таким образом марксизм Пилецкого толкал молодежь к Богданову.
В «активе» мы прорабатывали резолюции 3-го съезда и меньшевистской конференции.[115] Организация и актив были общими. Представитель комитета был послан на съезд, а попал на конференцию. После его возвращения (я не помню, кто это был) состоялся ряд бурных заседаний и произошло разделение на две организации. Я в этой стадии не участвовал, так как уехал в деревню, и в течение лета мне пришлось много разъезжать (г. Духовщина Смоленской губернии, Москва, Кострома, снова Москва, снова Духовщина). Всюду я находил страну в состоянии кипения.
Осень 1905 г. Вернувшись в Москву, я поселился вместе с моим товарищем по университету Николаем Николаевичем Лузиным, ныне – академиком. Нам обоим очень хотелось продолжать научную работу, но это оказалось невозможно. Открытый формально, университет фактически бездействовал. Меня вдобавок влекло к политической деятельности, и для меня сейчас же началась партийная жизнь.
Формально я как пропагандист был причислен к одному из районов, но на деле занялся организацией студенческой фракции партии. Численно фракция не превышала сотни человек, но она пользовалась большим влиянием среди студенчества. Был избран комитет, в который я вошел вместе со многими другими – Овсянниковым, Кривцовым, Зачинщиковым, Чижевским, Савковым и т. д. Мы распределили между собой функции, и мне было поручено, совместно с Зачинщиковым, ведать боевыми делами.
В те дни либеральная буржуазия охотно давала деньги на вооружение. В университете на митингах и сходках производились сборы. Нам удавалось закупать оружие, и из студентов стали формироваться вооруженные отряды. Командование было возложено на Зачинщикова как прапорщика запаса и на меня по боевому темпераменту. Боевая суета вокруг меня крайне стесняла моего сожителя. Мы разъехались, и он вскоре уехал на год в Париж.
Я не буду описывать последующие месяцы – до января 1906 года. В одном из советских сборников, посвященных истории этой эпохи, были опубликованы мои воспоминания.[116] Издательство «Молодая гвардия» выпустило их впоследствии отдельной книжкой.[117] Скажу вкратце, что мы приняли участие во всех событиях того времени: митинги, охрана против черной сотни, «университетская осада»,[118] похороны Баумана, подготовка к вооруженному восстанию и декабрьское восстание.
Я был в октябре делегирован в совещание по подготовке восстания, при Московском Комитете партии, под председательством «т. Евгения» (Кудрявцева). Там я был избран в «тройку» вместе с «Иосифом Георгиевичем» (Урысоном) и рыжим старшим братом известного философа Ильина (кличку забыл).[119] Оттуда я неоднократно делегировался на межпартийные совещания по боевым и военным вопросам.
Я присутствовал на конференции Московской организации партии, которая решила начать вооруженное восстание.[120] Это было как раз в годовщину моего ранения. И, пройдя весь декабрьский путь, я к концу восстания с остатками дружины очутился на Пресне, при попытке пройти через Горбатый мост был арестован и спасся от расстрела чудом: мне помог неизвестный семеновский солдат и моя собственная решительность.
1906 г. Относительно событий 1906 года Музей революции в Москве устроил ряд вечеров воспоминаний, в которых я участвовал и выступал. В принципе все было стенографировано и должно было послужить основой для опубликования исторических сборников. Я не знаю, последовало ли какое-нибудь исполнение этих решений и обещаний.
Относительно Конференции военных и боевых организаций,[121] куда я был делегирован Московским комитетом вместе с тов. Ярославским, я в свое время, по просьбе Ярославского, написал обширные воспоминания, судьба которых мне неизвестна. В 1928 году перед моим отъездом за границу я участвовал в вечере воспоминаний в Музее революции вместе с товарищами Ярославским, Трилиссером, Кадомцевым, Бустремом, Грожаном и многими другими. Это не помешало год спустя Институту Ленина обратиться ко мне с рядом вопросов об этой конференции – вопросов, на которые уже имелись исчерпывающие ответы в печати и рукописных материалах. Ввиду этого я считаю необходимым вкратце рассказать о деятельности боевой организации в 1906 году.