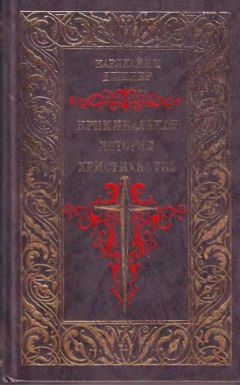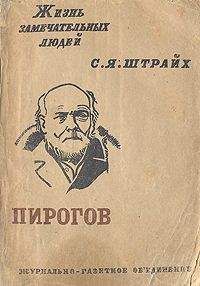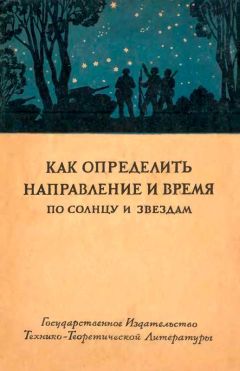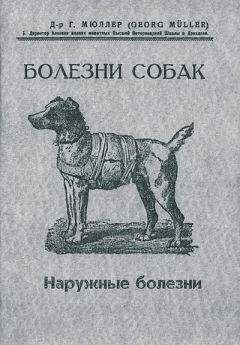Карлхайнц Дешнер - Криминальная история христианства
Эта самоуверенная убежденность в объективности, высмеянная графом Паулем Йорком Вартенбургом как «окурялизм», Дройзеном («объективно лишь бессмысленное») как выражение «евнухской объективности», иллюзорна. Так как нет никакой объективной историографии, нет истории, как она в действительности осуществилась, «есть лишь исторические интерпретации, из них ни одной окончательной» (Поппер). Мы же в историографии — а по сути в работе с «источниками», должны иметь дело с (первичными) носителями информации, надписями на памятниках, монетах, документами — иметь дело с описанием «событий», «фактов».
Эти описания, однако, принадлежат без исключения авторам, которые могли работать лишь с помощью риторических и повествовательных вспомогательных средств, которые — во все времена — выбирали, должны выбирать и должны были привести факты в какой-нибудь порядок, акт в меньшей мере научный, чем литературный Описания принадлежали авторам, которые исповедовали хорошую или плохую веру, которые не признавались, что ими, само собой, более или менее управляют интересы, которые, само собой разумеется, излагали односторонне, которые накладывались на свои исключительно корректные источники доказательств (при этом всякий перевод, конечно же, более или менее толкование), свою печать, ставили в определенный контекст, которые свое мировоззрение, более или менее сознательно, сделали лейтмотивом их интерпретации, причем к проблематике этого текста примыкает еще и традиция — нередкий феномен фальсификации, интерполяции. И современные историки поступают с документами, естественно, ни на йоту иначе, выбирают, продолжают, освещают, комментируют, толкуют в духе своего мировоззрения.
Как раз корифеи-то не укрепляли наше доверие к объективности их специальности Теодор Моммзен (Нобелевская премия 1902 г) назвал исключительно фантазию «матерью как всей поэзии, так и всей истории» Бертран Рассел написал заголовок «History as an art».[32] А.А. Роуз, ведущий английский историк XX столетия, видит историю намного ближе поэзии, чем большей частью думают, «in truth, I think, it is in essence the same».[33] Согласно Джерри Элтону, она (1970 г) прежде всего «повествование», «а story, a story of the changing fortunes of men, and political history therefore comes first because, above all the forms of historical study, it wants to, even needs to, tell a story».[34]
И Хайди Уайт назвал недавно исторический текст не чем иным, как «писательским художественным продуктом» (literary artefacts) Знатоки вроде Козелле и Джаусса подчеркивали в то же время тесную связь тактичности и фикции Кажется, Г Страсбургер нашел в 1966 г меткую формулу для истории, выразительно подтвержденную.
Ф.Г. Майером в 1984 г. «Смесь науки и искусства», «до сегодняшнего дня» — после того, конечно, как Ранке назвал в 1824 г задачу историков «одновременно литературной и научной», а самое историю «одновременно искусством и наукой».
Надо признать, что все необъективные, «ненатуралистические» акции позднейших историков покоятся на изложении, образцах толкования, типизирования ранних историков, которые точно так же неизбежно соблазняли «ехать» более или менее не туда, что сами наши «источники» осуществляли очень похоже, уже опосредованно, уже пройдя через другие воззрения, они уже селекция, в лучшем случае смесь исторических фактов и текста — это называется «литература», это называется дополнительным толкованием, короче, лишь «остаток», «традиция», уясним это четко, так очевидно, что каждая историография пишется из-за кулис присущего исследователю мировоззрения.
Некоторые ученые, правда, совсем не имеют такого мировоззрения и поэтому кажутся не особенно прогрессивными, зато весьма непартийными, прямыми, честными. Они представители «чистой науки», представители якобы нейтральной к оценкам, якобы индифферентной позиции. Они отбрасывают всякую возможность позиции, всякое субъективное участие как ненаучное, как почти кощунственное покушение на предложенный постулат объективности, это священное для них «sine ira et studio»,[35] чему, как язвил Генрих фон Трейчке, «никто меньше не следует, чем его инициатор» Разве все, «что называют чистой наукой, а именно регистр систем и гипотез, толкований и воззрений, все это заполнено, забито, набито до отказа старыми чувственными и сверхчувственными мифологемами», что точно, скорее во исключение, определил Шарль Пеги, само собой со своей католической позиции.
Ну, можно скрывать симуляцию научно — теоретической невинности, утайку мировоззренческих предпосылок исторических заявлений, многое другое, например, профессиональную косность, узость кругозора, прежде всего как раз в ученых кругах, в «маленьком музее избранных» (Сибел), наводящую страх нерешительность, этический релятивизм и эскапизм, трусливое бегство от ясных мировоззренческих решений — хотя это тоже решение, но безответственность во имя научной ответственности. Однако наука, которая не оценивает, поддерживает, хочет она того или нет, status quo, она поддерживает господствующих и наносит ущерб подневольным. Она лишь видимость объективизма и большей частью не что иное, как опасение за собственный покой, безопасность, собственную карьеру. Я ни в коем случае не оспариваю, что оценивающее историческое воззрение тоже отклоняется от научных убеждений, может быть порочным. Однако как раз страх историка толковать историю, его страх признать, что действительно происходит, лишь «еще один пример всем знакомого «trahison des clercs»,[36] отказа специалистов жить в соответствии с их делом» (Барраклудж).
Конечно, имеется не только один или два метода заниматься историей. Имеется большое многообразие методов, как показывает особенно американская историография, где ни один метод не имеет права на единственное представительство. Но даже если существует много различных форм знания и науки, то здесь речь идет лишь о двух — о науке, которая хочет заниматься самой собой, для которой наука конечное, высшее, род религии, и которая, как религия, может шагать по трупам и шагает, и о той науке, которая для себя не конечное, высшее, которая действует как слуга, стоит на службе человека, мира, жизни, которую связывает с историографией «долг политической педагогики», — выражение Теодора Моммзена, который как раз называет историю «судом мертвых» и, видя ее «обнаженную пошлость», ее «ужасные дикости», предупреждал «о детской вере, что цивилизация сможет вырвать зверство из человеческой натуры».
Свое известнейшее выражение эти оба научных представления нашли в XIX веке, в научном оптимизме естественных и исторической наук, в позитивизме и объективизме и в радикальном научном пессимизме Ницше. Он определил естественные науки своего времени как «нечто ужасное и опасное», как выражение той «роковой глупости», из-за которой мы «однажды погибнем» Сходно оценивает он господствующую историческую науку и требует истории «для цели жизни», истории, которая предлагает «примеры», «учителей, утешителей», но особенно — «критической истории», которая прошлое «притянет к суду, с пристрастием допросит и наконец приговорит», потому что «такое прошлое достойно быть приговоренным».
На другой стороне стоит Макс Вебер, сторонник полного отделения от науки и оценок, для которого наука лишь эмпирическое исследование, аналитическая инвентаризация и принципиально не имеет дела с ценностями, чувствами, должным, даже если Вебер, различая суждение о ценности и (неокантианское слово) ценностное отношение, принимает в науке последнее и хочет поставить научное знание на службу решений в духе ценностных отношений, что не произойдет без резких противоречий.
Наша жизнь, однако, не свободна от оценок, а переполнена ими, и наука как часть ее может свободу от оценок только высмеять. Если мы можем день ото дня сравнивать, изучать, решать, почему мы не должны заниматься этим (оценками) именно в науке, области, которая стоит не рядом с нашей жизнью или даже над нею, но ей принадлежит, которая нам, человечеству и миру, может угрожать или содействовать? Я держу в руках труды историков, посвященных погибшей в бомбовой войне жене, иногда порой двум, трем павшим сыновьям, но порой эти люди, как и прежде, продолжали писать «чистую науку». Это их дело. Я думаю по-другому. Даже если бы аполитичное, свободное от оценок научное исследование и существовало само по себе, что я оспариваю, оно не было бы желательно, так как хоронит этическую мысль, способствует безгуманности К тому же такие исследования собственно никакие не исследования, никакое не открытие причинных связей, но, как подчеркивает Фридрих Майнеке, простая предработа, чистое собирание материала.
Насколько же согласуется действительность истории с моими представлениями?
Я оставляю здесь в стороне теоретико-познавательную проблему (вместе со структурой нашего перцепционного аппарата). Я спрашиваю в какой мере. Я не спрашиваю согласуется ли действительность истории с моим представлением о ней. Так как сам Витгенштейн говорит о математической теореме «Нет ничего, что она сделала бы воистину ясным, но то, что мы признали ясным, делает ее математической теорией», Эйнштейн также сказал «Насколько законы математики касаются действительности, они не гарантированы, и насколько они гарантированы, они не касаются действительности», — сколь же недоверчивее мы должны смотреть на историографию.