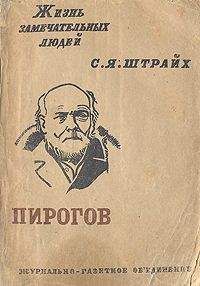Карлхайнц Дешнер - Криминальная история христианства
Однако статус истории как науки, как объективированной науки, и возможность исторической объективности (проблематика «Теории истории» или «Истории») ставится, между тем, многими историками под вопрос или напрямую оспаривается, я добавляю многими «отраслевыми историками». Так как тот, кто, по крайней мере в этой стране, не принадлежит к сыгранному (постоянно на новейшем исследовательском уровне новейшей сменой власти восстановленной научной деятельности), августейшему цеху благословенных университетами толкователей прошлого, тот не существует совсем, во всяком случае, сначала, потом иногда бывает наоборот. Я читал слишком многих историков, чтобы питать почтение к многим — тем больше почтения питаю к некоторым. Однако чтение большинства исторических книг необходимо столько же, сколько чтение авгуром полета птиц, что все-таки приятней. Такой достойный внимания муж своего дела, как француз Бернар Бродель, не случайно предупреждает об «l'art pour 1'art» в специальности историка. И, согласно В.О. Айделотту, английскому эксперту, критерии согласия среди ученой специализированной публики «часто», так пишет он, ведет «к ухудшению историко-научного ремесла», так как историк может стать «извне управляемым» и тогда он скажет не то, «что важнее всего согласно его убеждениям и взглядам, а то, на что, по его мнению, согласна его аудитория».
Как красноречив уже тот факт, что каждое поколение историков пишет ту же самую историю еще раз, что оно снова и снова заново обрабатывает те же самые старые исторические интервалы и исторические фигуры, как их заново обрабатывало предшествующее поколение историков по отношению к предшественникам — очевидно, всякий раз для неудовольствия последующих. После того как они обсудили факты, были ли эти факты действительно разгаданы? И означает ли описание само по себе уже богатые исследовательские урожаи? Расширение знаний и углубление знаний? Прогресс познания? Очень многое я находил у старых историков лучшим, часто значительно лучшим, чем у молодых.
Конечно, историки нашли объяснение для этой «реинтерпретации истории» (Ахам), для их «историографического обновления» (Рюзен), которые в высшей степени просветили, но ничего не изменяют в том, что поколения историков после них снова будут переписывать историю От случая к случаю — новые критерии, предпочтения, способы артикуляции, методы и «модели», новые модные повышения и снижения ценности тоже, адекватные времени расшифровки и шифровки. В XIX столетии «событийная история» повсюду была господином положения, сегодня интерес повернулся больше к «квантитативной истории». Недавно классической парадигмой были дипломатия и государственная политика, сегодня это скорее социально-экономические исследования. Есть также промежуточные позиции Время от времени возвращаются к старой технике, в общем и целом она не всюду сохранилась, как повествовательная «histoire evenementielle»,[28] история, по образцу еще в Античность тянущейся традиции, рассматриваемая по-преимуществу как литературная дисциплина, но, за исключением, возможно, Англии, почти везде вынуждена уступить первенство «histoire structurelle»,[29] аналитической рефлексии, критическому обсуждению, наивозможно точной понятийной фиксации, пока недавно не пришли к всемирному ренессансу старого повествовательного исторического наблюдения и к форме равновесия Следующие столетия принесут новые виды исследования, критерии основательности, методы споров, новые смешанные формы и новых посредников и т. д.
Спрашивается только, с какой такой самоуверенностью историки «смеются сегодня» (Козеллек) над некоторыми «исторически наивными высказываниями» XIX столетия, если, однако, многие историки XXI века будут смеяться над некоторым состоянием знаний и сознания многих историков XX века, а многие из XXII столетия — над многими из XXI, — всегда предположено, при условии, что еще подходит этому веку. Так и будет продолжаться вечный смех историков над историками? Вечная иллюзия, что так или иначе можно открыть истинные или хотя бы вероятные основные принципы исторической науки или, по крайней мере, к ним приблизиться.
Напротив, можно было бы предположить это постоянное переписывание, зановописание, другое видение истории — результат лишь ее собственных претензий на научность и истину, стремления к максимальной объективности, большей точности, главным образом, улучшенным условиям работы, функционально дельному инструментарию, измененной исследовательской техники и интерпретационной техники, глубоко проникающему зонду, лучшей возможности верификации, новым теоретически и методически концепциям, добавим сюда ограничивающие и расширяющие, точнее построенные проблемные установки, не говоря о нахождении новых источников.
Но в действительности историография показывает, что центр тяжести ее интересов перемещается лишь тогда, когда современная история перемещает ее интересы, ее идеологию, ее представления, что историография находится под известным нажимом вненаучных сил, метанаучного окружения, господствующей в определенный момент власти, политической практики, что она следует диспозициям и замыслам диктаторов, и тем самым является — как особенно учит развитый у большинства американских историков (в пику позитивизму) презентизм — лишь проекцией современных интересов на прошлое, именно XX век обнаруживает это во всем мире. И в XIX веке, как и в предыдущие эпохи mutatis mutandi,[30] едва ли было по-другому. Чем помогают прекраснейшие теории об объективности исторической науки, если реальность этой историографии опровергает ее собственные теории. Это почти напоминает о противоположности между проповедью христианства и его практикой.
И при методических разногласиях речь идет — как при так называемом методическом споре конца XIX столетия — намного меньше о деловой, чем о политической дискуссии, общественном процессе переоценки. Что же внешне было сделано ради науки, теоретического сознания, на самом деле было обусловлено пред- и вненаучной реальностью, текущей политикой, социальной сферой жизни, субъективностью, эгоизмом.
Теперь к общей проблеме объективности присоединяется еще один частный, щепетильный феномен, который с нею сопряжен Трудности — меньше всего результат того факта, что источники часто имеют пробелы, датировка ненадежна — не говоря уж о мировоззренческих различиях всех ветвей науки, хотя бы археологии, лингвистики или истории Скорее, речь идет о языке историков, так как история касается множества текстов, так как вся историография это язык.
Еще Луи Альфану (1946) было достаточно «определенным образом положиться на документы, которые, будучи прочитанными друг за другом, как они нам предстали, чтобы цепь фактов увидеть организованной почти авто матически». Но, к сожалению, «историографические» факты еще не «исторические» факты, представления не действительность, не faits bruts.[31] К сожалению, нет «никакого резкого разрыва между историей и мифологией никакой четкой границы между «фактами» и теорией» (сэр Исайя Берлин), напротив, те и другие «настолько переплетены друг с другом, что напрасно было бы пытаться их строго и точно разделить» (Арон). К сожалению, даже исторические факты могут быть по-разному увидены и оценены, они могут быть односторонне освещены или затемнены, искажены, перевернуты, подвергнуты фальсификации, они могут быть и сами по себе многослойными, сами быть уже «научной конструкцией» (Бобинска), «конструкцией исторического ученого» (Шафф) Короче, историческую жизнь нельзя понять адекватно через репродукцию, а лишь приближенно, всякое историческое описание — неразделимое переплетение фактов, гипотез, теорий «Каждый факт уже теория», — как остроумно утверждал еще Гете.
Мы никогда, поскольку история ушла, не будем непосредственно с событием, никогда не будем на одной ставке с чистым фактом, по слову Ранке, с тем, «как это собственно было», что, впрочем, звучит скромнее, чем полагали Консервативный историк, которому служба историографа — достаточно педантичная — кажется сравнимой со службой проповедника, который зачастую даже имел основания аттестовать себя беспартийным, в высшей степени беспартийным, желал «погасить, так сказать, свое Я», «говорить лишь о вещах, которые явлены могущественными силами», и приписал «истинной» истории задачу быть «надпартийными за и против», «лишь смотреть, проницать чтобы потом сообщить, что она увидела».
Эта самоуверенная убежденность в объективности, высмеянная графом Паулем Йорком Вартенбургом как «окурялизм», Дройзеном («объективно лишь бессмысленное») как выражение «евнухской объективности», иллюзорна. Так как нет никакой объективной историографии, нет истории, как она в действительности осуществилась, «есть лишь исторические интерпретации, из них ни одной окончательной» (Поппер). Мы же в историографии — а по сути в работе с «источниками», должны иметь дело с (первичными) носителями информации, надписями на памятниках, монетах, документами — иметь дело с описанием «событий», «фактов».