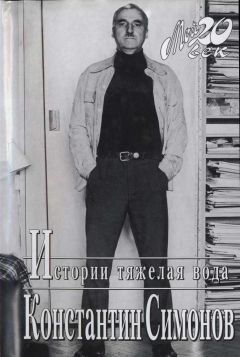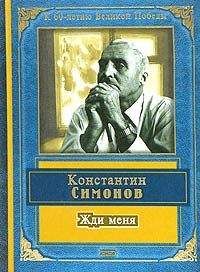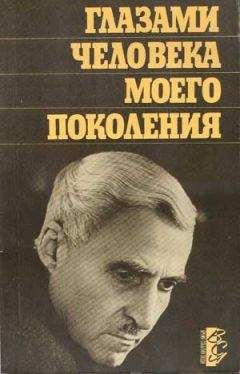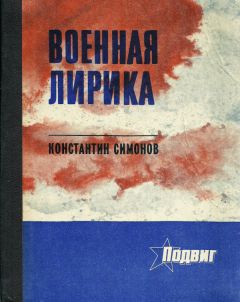Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Вдобавок было на очень свежей памяти все давнее: и Мюнхен, и наша готовность вместе с Францией, если она тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и оккупация немцами Чехословакии, — все это было на памяти, и все это подтверждало, что Сталин прав. Хотя все вроде было так, а все‑таки что‑то было и не так, какой‑то червяк грыз и сосал душу. За этим стояло не до конца осознанное ощущение — очевидно, так, именно ощущение, а не концепция, — что мы из‑за договора о ненападении в чем‑то из кого‑то одного стали кем‑то другим. С точки зрения государства, самоощущения себя как человека этого государства, все вроде было правильно. С точки зрения самоощущения себя как человека той страны, которая была надеждой всего мира, вернее, не всего мира, а всех наших единомышленников в мире, главной надеждой в борьбе с мировым фашизмом — мы говорили тогда о мировом фашизме, он был для нас не только немецким, — было что‑то не то. В этом прежнем самоощущении было что‑то утрачено, потеряно. И я это чувствовал и знал, что это чувствуют другие.
Возвращаясь в мыслях к тому времени, к тогдашним психологическим ощущениям человека, в общем, сознательно поддерживавшего Сталина, а в то же время бессознательно что‑то не принимавшего во всем этом, — думаю сейчас о самом Сталине. Как быть в этих обстоятельствах, когда, с одной стороны, Франция и Англия не хотели заключать к чему‑то обязывающего не только нас, но и их серьезного военного договора, а с другой стороны, фашистская Германия предлагала пакт о ненападении и готова была при этом в случае войны с Польшей не переступать линии Керзона, не доходить до наших границ, а наоборот, дать нам возможность дойти до этой линии, некогда предполагавшейся как справедливая граница между нами и Польшей?
Сталин решал, как быть. Решал сам. Он мог советоваться, спрашивать мнения, запрашивать данные — не знаю этих обстоятельств и не вхожу в них, — знаю одно: он к этому времени обеспечил себе такое положение в партии и в государстве, что если он твердо решал нечто, то на прямое сопротивление ему рассчитывать не приходилось, отстаивать свою правоту ему было не перед кем, он заведомо был прав, раз он принимал решение. Так вот, я задаюсь теперь вопросом — психологическим, — было ли у него внутреннее противодействие этому решению, было ли у него, хотя бы частично, ощущение того, что где‑то в глубине души чувствовали мы: с этим решением мы становимся в чем‑то другими, чем были?
Когда я задумываюсь над этим сейчас, мне начинает казаться, что такого рода ощущения у него могли быть. У меня нет никаких сомнений в том, что конечный этап отношений с гитлеровской Германией он представлял себе как схватку не на жизнь, а на смерть, схватку, которая должна была принести нам победу. И в чем‑то он смотрел на пакт о ненападении так же, как и наши, как их тогда между собой называли мы, «заклятые друзья» — немецкие фашисты: это был шаг по пути к той будущей схватке, в которой не будет среднего выхода, будет или — или, в которой мы обязаны победить.
Мне почему‑то кажется, что он мог вспоминать период борьбы за заключение Брестского мира, период, в который Ленин должен был вести жесточайшую борьбу внутри партии для того, чтобы доказать свою правоту и заключить этот мир. Сталин в этом не нуждался, он успел поставить себя в такое положение, когда собирать голоса в поддержку своего решения ему не приходилось, — в этом была разница. Но, может быть, от этого и чувство собственной ответственности было еще тяжелее. Решения, принимаемые при общем молчании или при равнозначном этому общему молчанию механическом одобрении, куда тяжелее, чем могут показаться с первого взгляда. В конце концов, если вдуматься, окончательные решения, принимаемые одним за всех, — самое трудное и самое страшное. Военные это знают лучше всего. Правда, у них это бывает вызвано прямой и объективной необходимостью самих условий войны. Сталин создал для себя подобную необходимость сам, шел к ней долгим и кровавым путем. И все же, говоря все это, я думаю: а не ставил ли он себя тогда, перед заключением пакта, мысленно на место Ленина в период Брестского мира? Своих умозрительно предполагаемых оппонентов — на место Бухарина и левых коммунистов или на место Троцкого? Не поддерживал ли он своей решимости мыслью, что этот похабный пакт — он вполне мог мысленно так называть его, особенно если вспоминал Ленина при этом, — ничем не хуже похабного Брестского мира, — что этот похабный пакт в сложившейся международной обстановке не менее необходим, чем похабный Брестский мир, хотя связан с идеологическими утратами, но утраты эти потом, когда в конце концов все кончится победой над фашизмом, нашей победой, а не чьей‑либо еще, — эти утраты окажутся обратимыми, а сейчас этот пакт даст ту передышку, которая необходима для решения будущих задач. Наивно, конечно, пробовать думать за такого человека, как Сталин, пробовать представлять себе ход его мыслей — эти домыслы, разумеется, ни на чем ином, кроме интуитивной уверенности или допустимости, не основаны, и все же не могу отказаться от мысли, что в них есть какая‑то своя логика.
* * *Если говорить о собственной жизни, то с моей стороны будет правильно именно здесь пропустить семь лет, переброситься из августа и сентября тридцать девятого года в август и сентябрь сорок шестого, в послевоенное время. Все те проблемы, связанные с личностью Сталина, которые вставали передо мной и другими людьми моего поколения в первый период войны, на протяжении ее и после нее, и сразу, и спустя много лет, и до, и после XX съезда партии, — все это и составит в конце концов основное содержание, главную часть этой рукописи и будет связано не только с личными ощущениями того времени, но гораздо более с последующими размышлениями, связанными с работой над моими послевоенными книгами, над дневником писателя «Разные дни войны» и со всеми теми многочисленными беседами, которые я вел с многими людьми, каждый из которых по — своему и несравненно ближе, чем я, сталкивался в своей жизни с темой «Сталин и война», «Сталин и подготовка к войне», «Сталин и начало войны». Это, собственно, и есть главный предмет и моего изучения, и моих размышлений. Он и будет главным содержанием рукописи.
Для того чтобы перейти к этому, мне кажется необходимым еще одно преддверие, кроме того первого преддверия, которое составил рассказ о моих юношеских представлениях о Сталине и обо всем связанном с ним.
Таким вторым преддверием будут некоторые, не слишком многочисленные, но все‑таки имевшие в моей жизни впечатления о личном общении со Сталиным, о Сталине вблизи, увиденном собственными глазами в буквальном смысле этого слова. Все эти личные впечатления связаны не с войной, а с литературой, хотя случалось, что и Сталину, и нам как его собеседникам в том или ином случае приходила в связи с литературой на память война. Об этом я тоже расскажу.
Прежде чем перейти к этой части своих воспоминаний и связанных с ними мыслей, несколько слов о моей предвоенной жизни и предвоенных ощущениях между осенью тридцать девятого года и июнем сорок первого. Я, может, еще буду возвращаться к этой поре в связи с главной темой своей рукописи, а здесь хочу сказать именно о себе самом в то время.
В Белостоке — не то в первый, не то во второй день заседаний Народного собрания — я чуть было не повалился без сознания от внезапно вспыхнувшей высокой температуры — за сорок. Уже плохо соображавшего, меня доставил в госпиталь Евгений Долматовский и трогательно заботился обо мне, пока мог, пока сам находился в Белостоке. Госпиталь был на базе польского госпиталя, какой‑то в моих смутных воспоминаниях наполовину наш, наполовину иностранный. Тогда, в тридцать девятом году, я во второй раз чуть не умер — такое сильное крупозное воспаление легких у меня было, температура сорок держалась недели три, если не больше. Через какое‑то время, добившись командировки в «Красной звезде», до меня добралась мать — другая б, наверное, в той обстановке не добралась, но у нее был такой характер, что в подобных обстоятельствах она могла и стены прошибить. Когда я начал поправляться — температура наконец спала, оставалась только страшная слабость, — мать добилась, чтоб меня отправили долечиваться в Москву. Из Белостока до Минска мы летели с ней на санитарном самолете, по — моему, на Р-5, а от Минска ехали поездом. В Москве мне сначала резали руку, потому что на ней вздулась огромная флегмона после уколов камфары и кофеина, — наверное, занесли какую‑то инфекцию. Потом я еще лежал дома, приходил в себя, а затем еще с ватными ногами перебрался на отдых в Дом творчества в Переделкине — был там тогда маленький домик, впоследствии сгоревший.
Я рассказываю обо всем этом еще к тому, что происходившее в тот период установление советской власти в республиках Прибалтики прошло как‑то совершенно мимо меня и мимо моего сознания. Попал я в те края только после войны, в сорок седьмом году, и думал о том, как это все было там тогда, в тридцать девятом, уже задним числом, встречаясь с Вилисом Тенисовичем Лацисом, кое‑что рассказывавшим мне о сложностях того времени с присущей ему строгой сдержанностью, соединенной с прямотой и органической нелюбовью к смягчению острых углов истории.