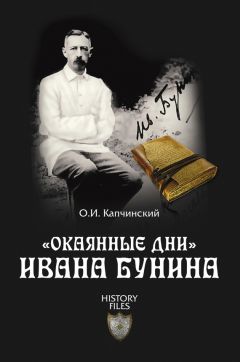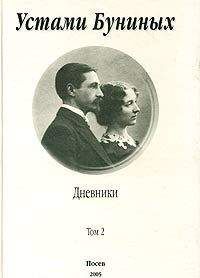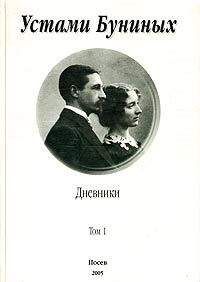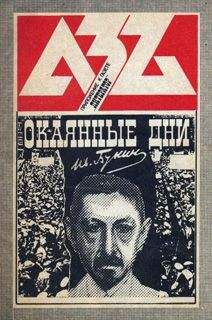«Окаянные дни» Ивана Бунина - Капчинский Олег Иванович
Мишка Япончик глазами деятелей искусства
В данном очерке, посвященном королю одесского преступного мира, хотелось бы рассмотреть вопрос о другом Мишке Япончике – мифологическом, серьезно отличающимся от настоящего, а именно – герое одесского и вообще «блатного» фольклора, чей образ был создан не столько народной молвой (хотя и ею тоже), но и богатым воображением людей искусства.
Нужно оговориться, что не все деятели культуры, живущие в Одессе в то время, сочли нужным посвящать предводителю местных бандитов место в своих мемуарах и особенно в дневниках.
Если Надежда Тэффи (Лохвицкая) в вышедших в конце 1920-х годов в парижской эмиграции воспоминаниях посвятила ему пару строк, связанных с тем, что Гришин-Алмазов (с которым она была знакома лично) вынужден был вступить с ним в переговоры, итог которых для мемуаристки остался неизвестным [581], то такие знаменитые писатели, жившие в годы Гражданской войны в Одессе, как Алексей Толстой и Валентин Катаев, о Япончике ничего не оставили. Эти литераторы, как и некоторые другие, находившиеся тогда в южном городе, являлись выходцами из дворянских семей, впитавшими соответствующие традиции, где было место благородным разбойникам вроде пушкинского Дубровского, и в этой связи уж скорее бы они обратили внимание на Котовского, нежели на порождение низов еврейского общества Винницкого, последний им, скорее всего, был не очень понятен.
Вполне естественно, что ни слова о Япончике нет и у Ивана Бунина, причем не только в «Окаянных днях», но и в более подробных совместных с супругой Верой Николаевной дневниковых записях; хотя не раз упоминаются Домбровский, Северный, Фельдман, причем последний – не в качестве комиссара бандитского полка, а секретаря исполкома.
В произведениях же некоторых писателей-евреев, например Лазаря Кармена, в начале века присутствует образ «национального Робин Гуда», вора, заступавшегося за обездоленных и угнетенных соплеменников. В некотором роде продолжением этой традиции стали и рассказы и пьесы Исаака Бабеля, который для создания образа Бени Крика использовал образ вполне конкретного налетчика.
Мифологический образ Япончика стал формироваться уже вскоре после его гибели. Об этом может свидетельствовать, в частности, опубликованная 6 января 1920 года в газете «Варшавское слово» статья бывшего одесского юриста А. Вольского «Мишка Япончик», в которой говорилось, что в 1917 году он гастролировал в Петрограде, Москве, Екатеринодаре, Киеве, Варшаве и Лодзи и ни одна крупная кража со взломом в этих городах не обходилась без его участия, что, конечно, не соответствовало действительности. Однако подлинной одесской легендой король Молдаванки стал все же после выхода бабелевских произведений. Интересно, что после гибели Япончика и до выхода первых «Одесских рассказов», для персонажа которых писатель позаимствовал образ Мишки Япончика, на страницах художественных книг и в воспоминаниях людей искусства последний практически не появлялся. Таким образом, о Япончике вспомнили в первую очередь благодаря бабелевскому герою, и в этой связи весьма показательной является оплошность, допущенная в начале 1960-х годов литзаписчиками мемуаров ветерана ВЧК-ОГПУ Федора Фомина, что Беня Крик – одна из кличек знаменитого предводителя воровского одесского мира. Впрочем, уже вскоре после выхода первых бабелевских рассказов поэт Михаил Голодный (настоящая фамилия – Эпштейн), известный как автор песни о матросе Железняке, написал стихотворение «Судья Горба», где были такие строчки: «Ну-ка, бывший начугрозыска Матьяш, расскажи нам, сколько скрыл ты с Беней краж?» (справедливости ради отметим, что Николай Матьяш не был начальником угрозыска, а в начале 1920-х годов заведовал политпросветом губернской милиции и к ответственности не привлекался). Несколько десятилетий спустя, в 1980-е годы, Беня Крик стал героем нескольких песен Александра Розенбаума и с той поры утвердился в отечественном «блатном» шансоне.
Предоставим слово Феликсу Зинько, с которым автор в данном случае полностью согласен:
«Давным-давно, еще с первой публикации рассказа Бабеля „Король“ в знаменитом журнале „ЛЕФ“, когда появилось редакционное примечание, что, мол, Беня Крик – это знаменитый одесский бандит Мишка Япончик, многие стали отождествлять литературный образ с прототипом. Произошла весьма типичная ошибка: литературный образ стал восприниматься как буквальное воспроизведение прототипа.
Но плохим писателем был бы Бабель, если бы списывал своего героя один к одному. Тем более что, похоже, лично он не имел счастья знать Моисея Винницкого. Так в миру звали Мишку Япончика. А писателем Бабель был не просто хорошим, а замечательным. Так что давайте условимся: Беня Крик – образ собирательный, как и положено литературному образу, он просто не мог быть зеркальным отображением Мишки Япончика. Более того, бандит Япончик из времен Гражданской войны трансформировался у Бабеля в Беню Крика из эпохи реакции после 1905 года. Беня Крик стал героем вполне романтичным и чем-то симпатичным, в отличие от прототипа – обыкновенного бандита» [582].
Таким образом, Бабель, писал не о Япончике как таковом, а о Бене Крике.
Мишка Япончик не так уж сильно отличался от предводителя харьковских налетчиков времен Гражданской войны, такого же, как и Винницкий, «керенского птенца» Ивана Бондаренко, чья банда была ликвидирована в 1920 году Особой группой Федора Мартынова, или действовавшего там же в Харькове Степки Херсонского; разве только они действовали более «топорно», не облагая заранее коммерсантов данью, и армейским полком не командовали (последний, впрочем, с властными структурами был не в менее интересных отношениях, о чем будет рассказано в следующей главе). Верно заметил по поводу Бондаренко харьковский историк Э. И. Зуб: «Не повезло тогдашней столице Украины со своим Исааком Бабелем. Поэтому, наверное, и Бени Крика в Харькове не состоялось, хотя прототип для этого имелся» [583].
Писатели и другие творческие деятели Одессы, после Бабеля (и в отличие от него) повествующие уже непосредственно о Мишке Япончике, только создавали мифологический образ короля одесских бандитов, причем, нужно отметить, что по своим взглядам эти мастера культуры были самыми разными – от противника большевизма Дона Аминадо (Аминодава Пейсаховича Шполянского) (в вышедшей в эмиграции в 1954 году книге «Поезд на третьем пути») до ветерана ЧК-ОГПУ-НКВД Александра Лукина (в повести «Тихая Одесса», впрочем, его писателем можно назвать с большой долей условности, поскольку, как мы уже говорили, он давал лишь идеи, воспоминания, а иногда и материалы литработникам). Одним из последних мифотворцев о Япончике был знаменитый куплетист Владимир Коралли (В. Ф. Кемпер), чьи мемуары увидели свет в конце 1980-х годов. Наибольшей достоверностью, по мнению автора исследования, являются воспоминания Леонида Утесова. Этому существует весьма простое объяснение: Утесов лично знал Япончика, тогда как другие его в лучшем случае только видели, а то и вообще сведения о нем имели из «вторых уст».
Отметим, что почти все писатели и артисты – одесситы, являвшиеся современниками Япончика и что-либо написавшие о нем, были евреями. Складывается впечатление, что, как бы эти лица ни относились к королю преступного мира, у них присутствовала некоторая гордость за своего соплеменника, достигшего высоких вершин не в традиционной «национальной» криминальной деятельности (фальшивомонетничество, финансовые махинации, игровое шулерство и тому подобное), а в уголовном бандитизме.
Однако сама романтизация представителей уголовного мира была присуща ряду мастеров отечественной литературы разных национальностей (мы не относим сюда произведения о «благородных разбойниках», характерные для всемирной литературы и имеющие давнюю историю). Первым широко известным произведением, с симпатией показывающим представителя откровенно воровской профессии в России, является ставший классикой отечественной литературы рассказ Максима Горького «Челкаш», написанный в 1894 году и спустя год опубликованный в журнале «Русское богатство». Кстати, прототипом главного героя явился сосед писателя по николаевской больничной палате – одесский уголовник [584]. В рассказе профессиональный вор Челкаш, высоко ценящий только свободу, явно с лучшей стороны противопоставлен крестьянскому парню Гавриле, стремящемуся к наживе (известно сохраняющееся на протяжении почти всей жизни весьма негативное отношение Горького к русскому крестьянству). Иван Бунин, опубликовавший в 1936 году в парижской «Иллюстрированной России» статью на смерть Горького, по поводу рассказа писал: «…в ту пору шла еще страстная борьба между народниками и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал „Челкашей“, на которых марксисты в своих революционных надеждах и планах ставили такую крупную ставку» [585]. Конечно, Бунин здесь несколько субъективен: в отличие от анархистов и махаевцев, марксисты все же делали ставку не на люмпен-пролетариат, а пролетариат (к последнему, впрочем, тоже можно относиться сложно). Но на уничижение Горьким селян даже перед представителями криминального мира он обратил внимание верно. Весьма символичным выглядит то, что одним из писателей, кому Горький, вернувшись из Италии в СССР, оказывал покровительство, был Исаак Бабель, создавший незабываемый образ уже не просто одесского, а еврейского Челкаша – Бени Крика.