Виталий Шенталинский - Преступление без наказания: Документальные повести
Как же Павел уцелел при такой крамоле? Просто ему очень повезло на следователя, который за рамками чекистских обязанностей оказался еще и любителем литературы: познакомившись со стихами молодого поэта, понял, что перед ним — большой, истинный талант. Тогда — время еще было не такое зверское — этот следователь, Илья Илюшенко, сделал все, чтобы спасти своего арестанта: несмотря на явно антисоветские стихи, Васильев был осужден условно и вышел на волю. Помогло Павлу и «чистосердечное раскаяние», вернее, то, что «сотрудничал со следствием», словоохотливо живописал грехи — свои и своих товарищей.
И вот теперь, спустя пять лет, они опять встретились. Среди вымуштрованных, на все готовых следователей обнаружилась белая ворона. Случай исключительный, почти невероятный!
Видя сочувствие, Павел все обвинения отрицал, винился лишь в том, что часто выпивал и по пьянке допускал неосторожные высказывания. О том, что произошло дальше, рассказал сам Илюшенко, допрошенный как свидетель через двадцать лет, при реабилитации поэта.
Я верил Васильеву, верил в его невиновность и несколько раз докладывал начальнику Секретно-политического отдела Литвину. Мною также проверялись и имеющиеся показания на Васильева. Я уже сейчас точно не помню, чьи это были показания — Карпова или Макарова. При проверке этих показаний я беседовал с Карповым, а может быть, с Макаровым, о достоверности его показаний. В беседе он мне сказал, что эти показания являются неверными, так как даны им под воздействием следователя. Он мне также заявил, что если его вновь будут бить, то он даст любые показания не только на Васильева Павла, но и на других, на кого от него потребуют.
После этого мною был написан рапорт на имя Литвина, в котором я писал, что Васильева считаю невиновным, а показания на Васильева не соответствующими действительности. Это было в конце апреля или в начале мая 1937 г.
На очередном оперативном совещании Литвин «прорабатывал» меня и говорил, что я не верю в их дело, то есть в борьбу с контрреволюцией. От следствия я был отстранен, и дело Васильева было передано Павловскому… О том, что Павловский недобросовестно относится к следствию, говорит хотя бы тот факт, что на одном из оперативных совещаний он с цинизмом говорил о том, что при ведении следствия от подследственных в показаниях он «меньше двух иностранных разведок и меньше тридцати участников в контрреволюционной организации не берет». Я также знаю, что Павловский к заключенным применял меры физического воздействия и этим способом от заключенных добивался нужных ему показаний…
Я хотел отвести от Васильева обвинения в террористической деятельности и сохранить его для литературы. Павла Васильева я считаю крупным, талантливым поэтом, и никаким террористом он не был. А показания Карпова или Макарова, точно не помню, о том, что Васильев хотел совершить теракт против Сталина, являются вымышленными или данными под физическим воздействием следствия, ибо в тот период этот метод получения показаний от арестованных широко практиковался.
Илюшенко сначала отстранили от дел, а через несколько месяцев арестовали. Обвинение — потакал контрреволюции, а значит, соучастник. В конце концов ему крупно повезло — остался жив, поплатился только карьерой: был направлен работать в норильский лагерь, а вскоре уволен и оттуда и исключен из партии — «за невыполнение оперативных указаний руководства и за невозможностью использования». В общем, не подошел для роли карателя, оказался не ко двору.
Это он, Илья Игнатьевич Илюшенко, сохранил в памяти, спас для потомства последние стихи Павла, написанные им в Бутырской тюрьме, — редчайший случай, когда и среди чекистов нашелся благодарный читатель, «поэта неведомый друг». Тогда Павел еще верил, что останется жить и что его ждет лагерь где-нибудь на далеком Севере. Стихи посвящены его жене Елене.
Снегири взлетают красногруды…
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю…
А вскоре после того, как были написаны эти стихи, из-под ястребиного пера поэта вышло сочинение, явно вдохновленное кулаками нового следователя — сержанта Павловского.
Народному Комиссару Внутренних Дел Н. И. Ежову
от Васильева П. Н.
Заявление
Начиная с 1929 г., я, встав на литературный путь, с самого начала оказался в среде врагов Советской власти. Меня взяли под опеку и воспитывали контрреволюционные Клюев и Клычков, а затем антисоветская группа «Сибиряки», руководимая Н. Ановым, и прочая антисоветская компания. Клюевы и Ановы изуродовали мне жизнь, сделали меня политически черной фигурой, пользуясь моим бескультурьем, моральной и политической неустойчивостью и пьянством.
В 1934 г. ряд литературных критиков во главе с И. Гронским прививали мне взгляды, что я единственный замечательный национальный поэт, а окружавшие в бытовой и литературной обстановке враги Сов. власти (А. Веселый, Наседкин и др.) подхватывали это, прибавляя: да, поэт единственный и замечательный, но вместе с тем не оцененный, несправедливо затираемый советской общественностью…
Я дожил до такого последнего позора, что шайка террористов наметила меня как орудие для выполнения своей террористической преступной деятельности. Однажды летом 1936 г. мы с Макаровым сидели за столиком в ресторане. Он прямо спросил меня: «Пашка, а ты бы не струсил пойти на совершение террористического акта против Сталина?» Я был пьян и ухарски ответил: «Я вообще никогда ничего не трушу, у меня духу хватит…»
Мне сейчас так больно и тяжело за загубленное политическими подлецами прошлое и все хорошее, что во мне было.
3 июня 1937 г.
Павел Васильев
Заявление П. Н. Васильева наркому внутренних дел Ежову от 3 июня 1937 г.
С такого документа, собственно, начинались почти все следствия в то время. Был задан сценарий: разоблачите себя, покайтесь сразу и во всем, докажите собственную вину и распишитесь. Вы сами себе и подготовите смертный приговор, так что нам ничего другого и не останется, как вас прикончить. Вы как бы сами себя и расстреляете — так мы это оформим. Признание подсудимого — царица доказательств!
Но вам мы этого не скажем. Работайте, старайтесь, надейтесь, что «чистосердечным раскаянием» вы, чем черт не шутит, может, и заслужите прощение, возможность дышать. Вам надежда, а нам — признание вины. Все равно — конец один. А потом — и концы в воду.
По бумагам следствия видно, как искажается подпись Павла — от допроса к допросу, превратившись в конце концов в какую-то бессильную, невыразительную линию. Тогда донеслась о нем из-за решетки неутешительная весть: седой, с переломленным позвоночником, вытекшим глазом. Слышали от человека, видевшего поэта в Лефортовской тюрьме.
На последнем допросе, 10 июня, Павловский еще раз пытал Павла о теракте, но получил тот же ответ: да, разговоры вели, но после я испугался, и ничего больше не было. Этот протокол начальник отделения Журбенко украсил резолюцией, жирным черным карандашом: «К т. Павловскому. Надо получить показания по Т в более развернутом виде. Срок 13.6.» «Т», разумеется, — террор. Пришлось сержанту снова, аврально и бессонно, от чего он, должно быть, еще больше озверел, таскать в свой кабинет полувменяемых арестантов, выявлять и заострять в протоколах их вражеское лицо.
Тут же состряпал Павловский, злясь, должно быть, на эту бумажную канитель, когда и так все ясно, и постановление об окончании следствия — опять вытаскивай жалких камерников для подписи! Настрочил обвинительное заключение по делу каждого — статьи 58-8 и 58–11, участие в антисоветской организации и подготовка теракта. Тем временем их отделение переименовали, перевернули шестерку, получилась девятка, не ошибись!
А после меняй выражение лица, неси бумаги на подпись начальству, одну за другой. Летите, голуби, летите! Все выше и выше — к капитану Журбенко, к майору Литвину и дальше — к самому наркому Ежову и прокурору Союза Вышинскому. К самой вершине…
Имена и номера
Процедура эта — одна из самых больших тайн Кремля и Лубянки. Приоткрыть ее удалось лишь недавно, а узнать до конца не придется уже никогда.
Следствие окончено, судьбы подследственных подлежат теперь суду. Но еще раньше, до этого так называемого «суда», они, судьбы, сжимаются в сверхсекретном списке — простом машинописном перечне имен, с делением лишь по категориям: 1-я — расстрел, 2-я — 10 лет лагеря. Несколько таких списков, составленных в центральном аппарате НКВД, сшиваются под общей обложкой — «Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР» — и ложатся на стол самого вождя всех времен и народов, пред его пресветлы очи. Именно в тот момент, когда он, просквозив их глазом, ставит свою подпись на обложке, и решаются эти судьбы — живые имена превращаются в мертвые номера.
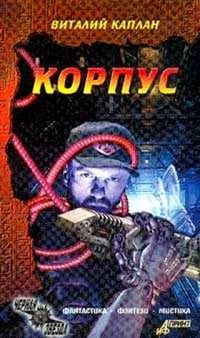

![Виталий Шенталинский - Охота в ревзаповеднике [избранные страницы и сцены советской литературы]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
