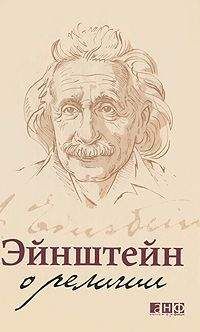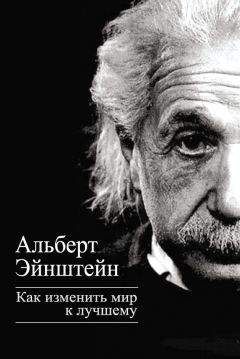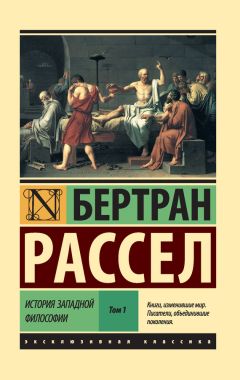Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
О Трифоныче Федор говорил хорошо, но Солженицына он не любит. «Кто он – Христос или Сатана?» Тут чувствуется и авторская зависть, и обида какая-то.
Я говорил ему, что как художник Солженицын действительно велик, никуда не денешься, но он не хотел с этим согласиться.
«Романы сырые… Сцены со Сталиным, Абакумовым – фельетон какой-то… А Спиридон – да это возмутительное отношение к народу»[155]. <.. >
12. ХII.70
<.. > Вечером повез Абрамова к Ивану Сергеевичу.
Говорили о Солженицыне, Айтматове и проч.
Рассматривали картину Попкова – речка, дома, олени и люди, а на горизонте – голубые холмы – и говорили о нем. Иван Сергеевич вспомнил, как был у Тыко Вылки. Вылка до революции побывал в Петербурге и был принят Николаем[156]. После революции стал председателем Совета на Новой Земле. Иван Сергеевич разглядывал икону в углу в серебряном окладе – лампадка горит, все чин чином. И вдруг замечает – да вместо святого там Калинин ставлен! <…>
Абрамов снова бранил Солженицына, а я не соглашался с ним.
«Народа в деревне – нет, вообще нет народа, – рассуждал он. – А какие святые люди были, я еще застал, бабы особенно, настоящие коммунистки (если бы коммунизм был возможен у нас)».
«Только азиатская страна может позволить себе такую роскошь, как гражданская война».
Опыт жизни Абрамова – страшный опыт, и сам он оттого – путаный-перепутаный. Никогда не могу до конца верить в его искренность – что-то темноватое есть в нем, какое-то взвешивание выгод – мужицкая хитрость и темнотца – не в смысле непросвещенности, а в другом, нравственном смысле – «темна вода во облацех»[157].
Да и, правду сказать, что за жизнь им прожита: несчастное, с надрывным трудом, детство, потом 11/2 года СМЕРШа и личное знакомство с Рюминым, о котором он сегодня вспоминал, – попытки пробиться в науку, зацепиться среди «городских» интеллигентов – и два постановления ЦК по его первым же литературным опытам (статья о деревне в «Новом мире» 1954 г. и «Вокруг да около»)[158].Душа его, кажется, настоящая, доверчивая, совестливая – иначе он не стал бы серьезным писателем, а жизненный опыт – ужасен и толкает его то к самолюбивой истерике, то к темноватой хитрости. <.. >
17.12.70
<…> Сегодня в «Правде» статья – чудовищная брань по поводу Солженицына. Несколько раз передавали по радио. Статья, конечно, псевдонимная – И. Александров – первую часть ее, как говорят, писал международник С. Вишневский, которого прочат в замредактора к Федоренко, а вторую – некто Орехов, злобный старик, доживающий до пенсии.
Рассказывают, что Лундквист выступил с опровержением фальшивки-заявления, направленного против Солженицына и напечатанного дня два назад в «Правде»[159].
31.1.71
Вернулся из Ленинграда, где занимался в архиве Пушкинского Дома Островским. Ходил по старым своим следам, набредал на свои росписи и заметки в архивных делах, оставшиеся там с 58 г. В иные после меня никто и не заглядывал – и вот снова у того же берега. Горькое чувство. Первые дни не мог отделаться от воспоминаний – 12 лет назад, когда я, молодой, еще неженатый, ничего не знавший – не ведавший, жил у старух на Невском недалеко от Казанского собора. Была молодость, были силы, весь город я исходил, избегал, сидел в архивах по 10 часов кряду, так что получил воспаление глаз от бумажной пыли, ел черт-те как, последние дни жил на копейки и ходил туда, где дегустировали концентраты и где можно было едва ль не за рубль (нынешние 10 копеек) съесть тарелку гречневой размазни со стаканом томатного сока – а все нипочем было, и жизнь впереди. Все, все впереди – работа над книгой, лекции в университете, женитьба, первые статьи в «Новом мире», «Лит. газета» – и, наконец, почти восемь лет тяжкой и счастливой жизни в журнале с Твардовским.
Было чувство – будто где-то в долгом путешествии побывал, видел других людей и другую землю, а теперь вернулся к своему битому корыту и сижу разбираю каракули Островского, как 12 лет назад, – только ни сил тех, ни безмятежности, ни надежд.
Первые дни вспоминал еще и А.Т. Едва ли не каждый час думал о нем – ведь последние два приезда в Ленинград были мы здесь вместе – в 63 и 65 году. Вспоминал, как выступали в ЦДРИ и Выборгском доме культуры, как пьянствовали и как А.Т. заставил Прокофьева выпить тост в честь Солженицына. Вспоминал, как ходили пешком от дома писателей к «Астории», и я показывал ему город.
16. II.71
<…>
11 – го числа был год, как в газете объявили о нашем уходе. В «Новом мире» юбилей был ознаменован тем, что Озерову и Берзер пригласили Смирнов с Большовым и предложили им подать заявления об уходе. И жалко, и противно. Все сбылось, как по нотам. Из них выжали все, что хотели, и теперь выбрасывают вон – достойная сожаления участь. Раздумывая об этом, перечитал прошлогоднюю мою переписку с Солженицыным и не пожалел ни об одном слове. <…>
28. II.71
<…> Сегодня с утра поехал с Роем в Пахру. А.Т. первые дни не мог приспособиться к дому. Ему, видно, казалось, что стоит перешагнуть свой порог, как к нему вернется все, что всегда было в этих стенах: что он начнет спокойно ходить, говорить, работать. И какое разочарование – ничего этого не случилось. Он – дома, но по-прежнему тяжко болен. Первые дни он буйствовал, гнал от себя медсестру. Сейчас привык, и лучше, ровнее.
Вчера были у него Солженицын с Ростроповичем. Солженицын привез рукопись, был весел, оживлен. Просил закладывать места, какие понравятся, – белыми полосками бумаги, а какие не понравятся – черными. Говорил, что когда-то учился писать левой рукой, стал пробовать, написал что-то. Тогда и А.Тр. захотел попробовать писать, тут же пропустил букву, расстроился и бросил.
Солженицын рассказал о своем обращении к Суслову, на которое нет ответа. (Ему казалось, что Суслов откликнется, поскольку когда-то в театре он подходил сам и жал руку Солженицыну.) Ростропович рассказывал светские новости. А.Т. был доволен этим посещением, но еще более был доволен вышедшим, наконец, 5-м томом. Оля рассказала, как он гладил его, из рук не хотел выпускать.
8. III.71
С утра поехал в Пахру, захватив букетик подснежников для М.Ил. У А.Т. сидел Гердт[160]. Временами кажется, что он слышит тебя, все понимает, улыбается к месту, а временами пропадает куда-то, глаза будто уходят от тебя и не видят ничего здесь.
Он решил, что врачи навредили ему, и ожесточился против них. М.Ил. говорит, что он всех их от себя гонит. Когда я за обедом попробовал тронуть эту тему, он страшно заволновался, стал выкрикивать свое «ну, ну, ну» – и потом с отчаянием и чуть ли не стукнув кулаком по столу, крикнул: «Отрезали голову». Это было так страшно, что первую минуту мы с Гердтом совсем растерялись, а М.Ил. заплакала. Видно, он думает, что его понапрасну облучали, и это его убивает. От лекарств он стал отказываться начисто.
Очень горько, когда он хочет что-то сказать, а его не понимают. Так сегодня перед началом обеда он говорил – «плеснуть, плеснуть», М.Ил. думала, что речь о вине, и не понимала его, и только когда мы все уже перебрали, теряясь в догадках, о чем он просит, а он, зарычав на нашу бестолковость, пошел в ванную – поняли, – он вспомнил, что надо помыть руки.
Читает он мало. Роман Солженицына так и развернут на столе на 38 стр. «Туго идет?» – спросил я. «Туго, туго», – согласился А.Т. <…>
16. IV.71
Член коллегии МИДа Капица, выступая в какой-то закрытой аудитории, сказал, что с Солженицыным некогда было разбираться до съезда[161], а теперь с ним дело будет быстро решено. Будто бы готовится закон, согласно которому появление за границей любого письма, заявления, произведения советских граждан будет караться лагерями со сроком до 8 лет. Досадно, что все это полумеры. «Собрать все книги бы да сжечь». <.. >
5. V.71
Заезжал к Ивану Сергеевичу. Подарил ему пластинку А.Т. Он слушал ее сосредоточенно, потирая руки, глубоко уйдя в кресло. Говорили об А.Т. И.С. вспоминал, как начал дружить с ним. Он приехал зимой в Карачарово, и они вдвоем прожили в маленькой комнате с камином (где заяц на печке) несколько дней.
Много и хорошо говорили – и только раз чуть не поссорились из-за Толстого (И.С. вспомнил слова Блока, что лучший рассказ у Толстого «Алеша Горшок», и, видно, соглашался с этим, а А.Т. сердился.)
Говорили об Исаиче, Иван Сергеевич расспрашивал о его жене. «Он, должно быть, все же жестокий человек. Давайте выпьем за нежестоких людей»[162].
Ростропович недавно говорил Гале М-ой, что С[олженицын] очень лестно высказывался обо мне. Это любопытно. Не жалеет ли уж он о прошлогоднем? Боже, как обернешься назад – сколько сердца у меня это отняло.