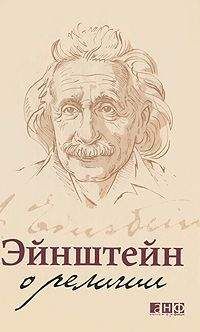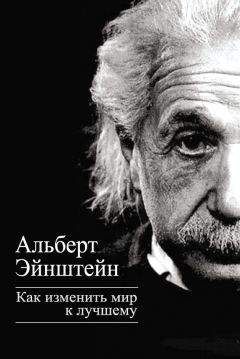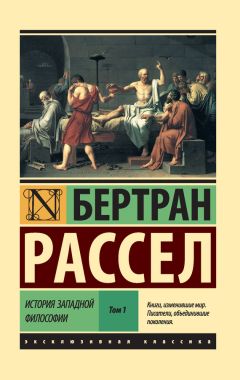Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
4. VII.70
<.. > Видел вчера балаболку Ю. Штейна. Он рассказал, что готовилась в «Лит. газ.» статья о высылке Солженицына и одновременно указ о лишении его гражданства. Будто бы тот считает, что «это неприятно, конечно, но трагедией для него не будет».
Держа меня за рукав и не выпуская, Штейн завел разговор о письмах. Честил на чем свет Берзер и Борисову[149], которые будто бы ‘всегда подогревали вне редакции неприязнь ко мне. Согласился, что Исаич пел именно с их слов. Исаича очень волнует, что я могу кому-то показывать нашу переписку – видимо, он понял ее для себя невыгодность. Штейн, как видно, тоже подлил масла в огонь, раздувая сплетню, что я подробно пересказываю письма первым встречным и т. п.
Исаич сидит сейчас в своем лесном доме – один (и как может оставлять его одного Нат. Алекс.?), заканчивает «узел первый» своей романеи. Студенты рядом, на опушке разбили свою палатку – охраняют его.
Штейн в какой-то эйфории «внутренней свободы», психопатичен, не дает рта раскрыть и страшно горд своим новым амплуа. Какое несчастье, что он рядом с Солженицыным.
«Он так погружен в свой 16-й год, – говорит Штейн, – что все в нынешней жизни выглядит для него как-то иначе». Чувствую в самом многословии Штейна, его попытках полуоправдываться, полунападать – нечистую совесть.
6. VIII.70
Вечер у Ермолинских, как бы завещанный Ел. Серг. Было хорошо и печально. С.А. читал свой «Сон». О Ел. Серг.: всю жизнь менялась, росла – потому что обладала талантом восприимчивости. Когда-то, в 20-е годы – была подругой Любы, весельчаком, звали ее Боцман – и она прыгала, лазила под стол – веселая, живая. То, что она говорила об отношении Булгакова к Сталину, это ее восприятие, Булгаков с ней об этом не говорил, утверждает С.А. Он говорил об этом иначе, когда приходил с колбасой, которую резал на газете, и поллитром в кармане. <.. >
31. VIII.70
<…> Думал (в связи с Солженицыным): бороться с талантом – все равно что пытаться поймать солнечный луч шляпой. Ты накрыл его – а он уже наверху. <…>
17. Х.70
Ужас, мука. Не знаю, как и записывать то, что случилось. А записать надо. 3-го мы со Светой поехали на 12 дней в Пахру. Долго нынешний год колебались, как быть с отпуском, тянули. Когда заболел Трифоныч, я уже твердо понял – в Ялту ехать нельзя. Последние известия об А.Т. были сравнительно неплохие, врачи говорили о длительном периоде постепенного его выздоровления – и я уехал в Пахру, успокоенный хоть отчасти, что хуже не будет. Из Пахры каждый день звонил Оле в Москву – известия были все те же – чуть лучше, чуть хуже.
В Пахре впервые за много лет видел полную осень – все пожелтело враз, простояло неделю – и осыпалось. Дурные предчувствия – и, как нарочно, и синица влетела в комнату, и зеркало разбилось. Там же прочел о Нобелевской премии Солженицыну. Счастливая судьба. И какой несчастный сейчас в сравнении с ним наш А.Т., думал я, но не знал еще всего.
14-го вечером не мог никак дозвониться на квартиру А.Т. (Бросился к телефону, не распаковав чемодана) – накануне, когда я говорил с Володей (зятем) из Пахры, он сказал что-то невнятное насчет легких – там-де главная опасность.
В 10-м часу трубку подняла Ольга и стала плакать в телефон. Сказала: «Самое страшное – рак легких с метастазами в мозгу». <…>[150]
18. Х.70
<.. > М.Ил. рассказала, что в последний день на той неделе, когда он чувствовал себя худо – ему сказали, что Солженицын получил премию. Он обрадовался. Сказал М. Ил-не: «А ведь и нас вспомнят, как мы за него стояли. И мы – богатыри». Читали ему статью «Недостойная игра»[151] – его все это интересовало. «А я вот в нетях». <.. >
22. Х.70
<…> Жизнь без Трифоныча кажется мне немыслимой – я привык, что он есть всегда – большой, умный и сильный друг. Все может рушиться, а он стоит и подпирает своды этой моей жизни. Теперь, проснувшись по утрам и вспомнив все случившееся несчастье, я в первые минуты испытываю сомнение – не скверный ли это сон – и вдруг все развеется, и Трифоныч будет здоров и ясен, как всегда… Если бы.
Живу, будто смотрю 4-й акт драмы, в которой сам я действующее лицо – погибающий Трифоныч и Солженицын, получивший премию и готовящийся к изгнанию. <…>
2. XI.70
<…>
Вероника звонила мне и сказала, что Исаич передает А.Т. свой запас иссык-кульского корня, в который он верит и который будто бы когда-то помог ему самому.
Рой был и рассказал о беде Солженицына. Он расходится с Н.А. – собирается жениться на Светловой и мечтает о ребенке. H.A. в безумии – пыталась отравиться, попала в больницу. Теперь подбирает старые письма Исаича, хочет удержать хотя бы прошлое. Все это ужасно, и в ином, более драматическом «и личном плане, повторяет его историю с «Новым миром» и со мною. Он безжалостен ко всему, что кажется ему разнадобившимся. Но несчастье в том еще, что теперь он в ловушке, – у него есть что отнять. А развод и все ему сопутствующее – лучшее средство убедить обывателя в его моральной несостоятельности.
<…>
23. XI.1970
<…>
Мелентьев[152] говорил в дружеской компании, подвыпив: «Пустили все-таки за границу этого антисоветчика». Он имел в виду Солженицына. Значит, все же он едет?
26. XI.70
<…>
Рассказывают, что друзья отговаривают Солженицына ехать за премией, да он и сам колеблется. Выедешь, а впустят ли обратно? Копелев говорил, что читает его «Август», но как-то кисло: «Есть о чем поспорить».
Прошел слух, будто Федин ездил к Шолохову с поручением – уговорить его отказаться от премии в знак протеста против вручения ее Солженицыну. Вешенский старец же заявил, что готов как угодно высказаться против Исаича, но от премии не откажется. Еще бы!
30. XI.70
<…>
Видел Можаева. Он рассказал, как весной спорил с Солженицыным, который показывал ему нашу переписку. Боря совестил его, а Солженицын, оправдываясь, говорил: «А что? А что? Надо ударить по либерализму». – «Так зачем ты не Трифонычу пишешь?» – «Ну так, я потом сам зайду к Лакшину, мы помиримся, а для истории останется».
Снова вспомнил все перегоревшее уже, и стало противно и тоскливо. Хорошенький гуманист, который при наших-то прежних отношениях видел во мне лишь мишень, удобный адрес для высказывания. Эх, эх, Исаич…
Рассказывают, что Солженицын написал письмо, в котором объясняет, почему он не поедет за премией, и выдвигает, как будто, четыре причины. Для серьезного объяснения достало бы и одной[153]. <…>
9.12.70.
Был у Ал. Тр-ча в Кунцево вместе с М.Ил. и Заксом. Он сам накануне просил позвать нас. Застал я его по внешнему виду много лучше, чем 11/2 месяца назад. Впечатление такое, что сил у него прибыло, нет прежней ужасающей бледности, худобы и слабости. Иногда повернет голову – совсем прежний Трифоныч. Но правая нога и рука – бестрепетны, а речь смутна.
Встретил он меня ласково, обнимал. Пока разговаривали, почти все время сидел на постели, правая рука беспомощно скрючена, как клешня. Хочет говорить сам («сам, сам!» – кричал он, сердясь на беспомощные подсказки М.Ил.). Спрашивал о 5-м томе, который Закс вычитывал в верстке, но чем-то все был недоволен. «Какое впечатление?» – допытывался у меня. Спросил о Солженицыне, с трудом найдя слово.
Вообще, не могу сказать, чтобы у него было лучше с речью. Сил больше – это так, но в голове прежний беспорядок. А душевно Трифоныч все тот же – добрый, приметливый, чуткий, деликатный. Улыбается шутке, но общий тон – печальный. Просидел у него около часа – и не расплакался обратной дорогой.
М.Ил. рассказ[ала], что Исаич прислал ей (или А.Т.?) письмо, где подробно рассказывает, почему не поехал за премией, и приложил копию письма Нобелевскому комитету[154]. Все старается – «для истории». <…>
10.12.70
Был у меня Фед. Абрамов. Даровит, горяч в разговоре, но с мужичьим лукавством. Лучше всего он – когда говорит о своем крестьянском прошлом, о семье, о матери. Был он самый младший, но с 6 лет возили на дальний покос, дали крохотную коску, заставляли приглядываться к ухваткам старших братьев. А он был так мал, что его то и дело теряли в высокой траве. Отца не было – а старшему брату – 14 лет, но выбились, потому что много работали, а потом стали их прижимать как середняков – мать разбил паралич, 8 лет пролежала. У Федора ненависть к «беднякам» – деревенским лентяям, которые были «бедняками» и к 29 г., то есть когда 12 лет уже земля была отдана крестьянам и давно можно было поставить хозяйство. «Мы наработаемся с 4-х – 5-и часов утра – и к девяти едем завтракать, а наш вахлак – «бедняк», помыкавший нами, только еще глаза трет».