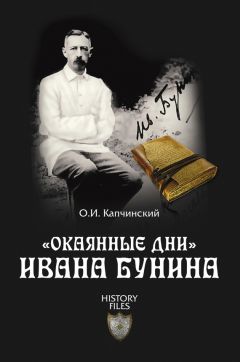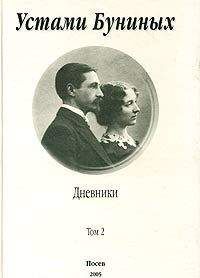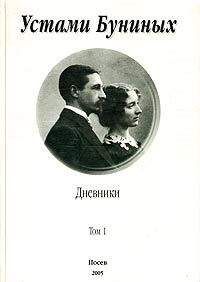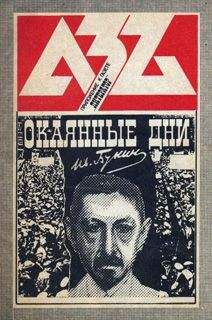«Окаянные дни» Ивана Бунина - Капчинский Олег Иванович
26 октября 1922 года Дейч уходит с чекистской службы окончательно – Дзержинский забирает его на работу в систему возглавлявшегося им ВСНХ. Здесь он руководил Камвольным трестом и являлся зампредом Всесоюзного текстильного синдиката. В 1930 году Дейч полгода в Харькове руководил Всесоюзным объединением «Уголь», затем вновь вернулся в легкую промышленность, возглавив сначала «Союзшерсть», а затем – соответствующий – главк в наркомате. В 1933–1934 годах он был замнаркома легкой промышленности, затем стал руководить группой легпрома в Комитете советского контроля. В июне 1937 года Дейч был арестован, а в октябре расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда. Реабилитировали его в 1956 году.
«Вихман – страшилище Чека»
Говоря об исполнителях смертных казней в Одесской ЧК в 1919 году, К. Алинин писал:
«Но из всех этих отщепенцев особенной, непостижимой жестокостью отличался один из членов президиума В-н. Я не раз видел этого человека. Московский студент с бледным продолговатым насквозь глазами… Этот В-н впоследствии был назначен начальником военной чрезвычайки на фронте. Его секретарь с упоением рассказывал о нем:
– Это талантливейший человек. Он сам судит, сам выносит приговор и сам его сейчас же исполняет на месте! За-амечательный человек!» [525].
Несложно установить полную фамилию этого члена президиума: Вихман – начальник оперчасти Секретно-оперативного отдела, одной из функций которой было приведение в исполнение расстрельных приговоров. А вот свидетельство уже из 1920 года. Некий В. О., 56 дней просидевший под арестом в Одесский ЧК, в своих воспоминаниях, опубликованных в конце того же года в парижской эмигрантской газете «Общее дело», сообщал о посещении арестантов Вихманом следующее:
«Приезд „самого“ Вихмана навел столь сильную панику на всех заключенных, что последние быстро пошли по камерам. Вихман – страшилище Чека. Он собственноручно расстреливает приговоренных. Об этом всем известно отлично. Но Вихман, если ему физиономия чья-то не понравится или ему не угодишь ответом, может расстрелять и тут же в камере по единоличному своему желанию (насколько верно последнее утверждение? – O. K.)» [526].
Фамилия Вихмана неоднократно упоминается в книге Мельгунова о Красном терроре [527]. Роман Гуль в своей повести о Дзержинском, перечисляя получивших наибольшую известность «чиновников террора» пишет: «Здесь парижский студент, сын буржуазной еврейской семьи Вихман, до революции бело-розовый, „скромный, как барышня, а в годы революции из барышни превратившийся в дикого председателя ЧК…“» [528]. Так откуда взялся и куда делся впоследствии этот самый демонтированный из реально существующих (а не мифических, вроде Доры Явлинской) чекистов?
Реальные сведения биографического характера о Вихмане можно получить из хранящейся в РГАСПИ анкеты партийной переписи 1922 года, заполненной двумя годами позже, с приложением и вышедшего в 2012 году биографического словаря Михаила Тумшиса и Вадима Золотарева, посвященного чекистам еврейской национальности [529].
Внук талмудиста и сын богатого рыботорговца и домовладельца Михаил Моисеевич Вихман родился в 1888 году в Астраханской губернии. Окончив в 1907 году в Астрахани реальное училище, Вихман стал работать электромонтером в электромонтажной конторе, а затем, окончив соответствующие курсы, – киномехаником [530]. Мы видим, что студентом – ни московским, ни тем более парижским – Вихман никогда не был, и – таким образом, даже чисто биографические сведения у Алинина и Гуля неточны.
В 1912 году Вихман был призван на военную службу, которую проходил рядовым саперного батальона, расквартированного в Самаре. Во время войны солдатом инженерного полка он участвовал в боевых действиях, был награжден крестом 4-й степени, но дослужился только до ефрейтора [531]. Возможно, то обстоятельство, что христиане с таким же средним образованием в армии служили как минимум вольноопределяющимися, часто направлялись в школы прапорщиков и офицерские училища, а он так и оставался солдатом, и пробудило в нем ненависть к существующему строю, впоследствии проявившуюся в рьяном участии в Красном терроре.
В 1916 году по ранению Вихман был отправлен на излечение в тыловой госпиталь, где его застала весть о свержении самодержавия. Вскоре он в Царицыне возглавил милицию одного из районов.
Любопытно, что с партийной принадлежностью Вихман определится значительно позднее – лишь в октябре 1918 года; уже работая в ЧК, он записался в РКП(б) и спустя 3 месяца получил партбилет.
В 1918–1919 годах Вихман руководил отделением одной окружной ЧК, одним из особых отделов, а в мае-августе 1919 года, как мы уже ранее писали, возглавлял оперчасть Одесской ЧК, где и особенно «прославился» приведением в исполнение расстрельных приговоров. Эвакуировавшись 23 августа 1919 года из Одессы, он командовал 1-м Красным партизанским полком на Украине и 378-м стрелковым полком прорывавшейся на север Южной группы Якира. Добравшись до Москвы, Вихман чекистским руководством был переброшен на восток, где на рубеже 1919-1920-х годов вошел в коллегию ЧК в Екатеринбурге. Однако уже в начале апреля 1920 года он снова оказался в Одесской ЧК, где, согласно местным «Известиям», сначала стал помощником секретаря, а с 18 апреля – секретарем комиссии, в чьем ведении находилась общая канцелярия.
Роман Гуль в повести о Котовском описал один эпизод, связанный со спасением ее героем арестованного Одесской ЧК сына известного одесского писателя, друга Бунина Александра Митрофановича Федорова, чьими хлопотами перед властями в 1917 году будущий легендарный комбриг был освобожден, в котором фигурирует и интересующий нас персонаж:
«В Одессе зверствовал глава большевистской Чека садист Вихман, впоследствии расстрелянный самими же большевиками. Как раз в эти дни Котовского разыскал писатель Федоров. Понадобилась ему не жизнь Котовского, а более дорогая жизнь его собственного сына, офицера, попавшего в Чека. Там один суд – пуля в затылок. Но Котовский бросился вырывать сына Федорова из вихмановских рук. Это было рискованно даже для Котовского: хлопотать об активном члене контрреволюционной организации. Но Котовский не просил у Вихмана, а потребовал:
– Я достаточно сделал для большевистского правительства и требую подарить мне жизнь этого молодого офицера, отец которого в свое время сделал мне не менее ценный подарок.
Вихман с чекистами уперлись. Мастера кровавого цеха возражали:
– Если „подарить“ вам этого белогвардейца, то придется освобождать всех арестованных по одному с ним делу, так как вина этого офицера – наибольшая.
– Подарите их всех мне!
Чека не выдавала. Но какой-то такой ультиматум поставил Котовский, что Вихману пришлось „подарить“ Котовскому и сына Федорова, и его товарищей. Широко, по-человечески отплатил Котовский писателю Федорову» [532].
Сюжет с арестом в 1920 году бывшего артиллерийского подпоручика, служащего в прожекторной станции Большого Фонтана Виктора Федорова, ошибочно перенесенный Гулем на год раньше (соответственно, к Котовскому на самом деле обратился не Федоров-старший, к тому времени уже эмигрировавший, а оставшаяся в Одессе его жена Лидия Карловна) лег в основу «Уже написан Вертер» Катаева, хотя, согласно повести, как мы уже указывали в очерке о Дейче, перед прообразом последнего Максом Маркиным хлопотал прообраз Андрея Соболя Серафим Лось. На самом же деле Соболь хлопотал перед Дейчем совсем за других лиц. Что же касается служащего прожекторной станции Виктора Федорова, то своим освобождением он, а заодно и его начальники Хрусталев и Назаренко, арестованные по информации рабочего этой станции Марка (Меера) Штармана (вскоре ставшего сотрудником для поручений комендатуры Одесской ЧК, а затем за почти 30-летнюю работу в чекистских органах дослужившегося до помощника министра госбезопасности Литвы), были обязаны именно Котовскому. Согласно комментатору катаевской повести одесскому литературоведу Сергею Лущику, произошло это либо в конце июля, либо в течение августа 1920 г. – в это время в Одессе пребывал Котовский [533]. В этом случае вполне возможно, что Котовский потребовал освобождения арестованных именно у Вихмана, поскольку, как нам удалось установить по одесским «Известиям» за 1920 год, 1 августа он стал временно исполняющим обязанности предгубЧК и находился на этом посту до 10 августа, когда ЧК возглавил Дейч. При последнем же могло состояться освобождение арестованных по делу о белогвардейском заговоре на прожекторной станции (в повести на маяке) – и, таким образом, отчасти правы могли быть и Гуль с Катаевым.