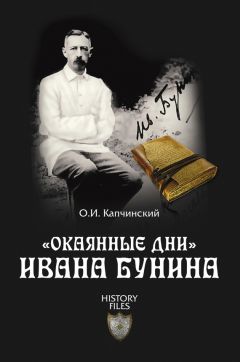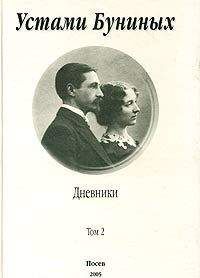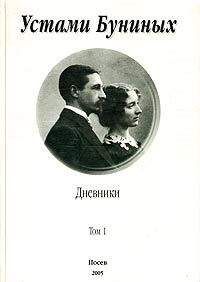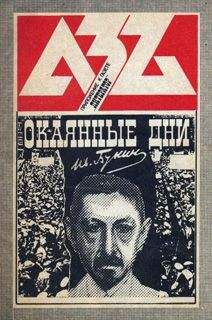«Окаянные дни» Ивана Бунина - Капчинский Олег Иванович
К тому времени в ВЧК у Каменева нашелся высокопоставленный заступник. Им стал один из его бывших руководителей начальник Административно-организационного управления Иван Апетер. 21 апреля 1921 года он написал, что знает Каменева в свою бытность начальником Особого отдела 12-й армии в 1919 году. Тот прибыл из Южной группы войск после отхода из Одессы и был задержан для работы в качестве уполномоченного по наружному наблюдению и характеризуется по этой работе положительно [462].
Второй и более обстоятельный положительный отзыв Каменев получил, как ни странно, от одного из одесских руководителей 1919 года, а именно Елены Соколовской, на тот момент – зампреда Мосгубполитпросвета (остальные свидетельства в пользу Каменева из Одессы исходили только от рядовых работниц-коммунисток). Она отметила, что была участником заседания президиума коллегии Губчека в августе 1919 года (по партийной линии она осуществляла надзор за чекистской деятельностью), который освободил Каменева, причем никто против не проголосовал. Относительно связи Каменева с Масальским Соколовская писала, что «для меня абсолютно непонятно, почему связывают эти два имени, ибо никакого отношения они друг к другу не имели, если не считать того, что оба они одновременно явились в губпартком и одновременно мной были направлены для работы в ЧК» [463].
Неизвестно, что побудило Елену Соколовскую так серьезно разойтись в оценке Каменева со своими бывшими коллегами-одесситами, – испортившиеся с ними по каким-то причинам отношения, ее слабая ориентированность в сути дела (ведь больше года она находилась за границей и только недавно вернулась в Москву) или ее личная принципиальность и объективный подход к делу. Как бы то ни было, но ее и Апетера мнения оказалось вполне достаточными для вынесения высшими инстанциями «оправдательного приговора» в отношении Каменева.
30 апреля 1921 года постановлением Секретариата ЦК, подписанным В. М. Молотовым, было решено ввиду документально (а на основании каких, собственно, документов?) опровергнутого обвинения Каменева дело о нем прекратить, а в части, касающейся Северного и Ракитина, доследовать [464]. Месяцем ранее начальник следчасти президиума ВЧК В. Д. Фельдман препроводил в Оргинструкторский отдел ЦК дело ОГЧК по обвинению Северного, Ракитина и Мильмана и переписку по обвинению Каменева к ранее отосланному делу [465]. Нужно отметить, что дополнительный материал по мере его поступления посылался последовательно 9 раз в ВЧК, и каждый раз с просьбой срочно расследовать дело и материалы по этому делу прислать в конфликтный подотдел ЦК РКП [466]. Однако в центральном чекистском аппарате ждали окончания расследования «по месту происшествия», то есть в Одессе…
Начинал дело Золотусский помощником уполномоченного, а заканчивал уже уполномоченным, то есть помощником начальника отделения, именуемого 2-я группа. И вот какой документ стал итогом его деятельности:
«Заключение по делу № 7719
Я, уполномоченный 2-й группы Золотусский, согласно заявлению т. Каменева Михаила о преступлениях против советской власти Ракитина (Броуна), Северного (Юзефовича), Корина (на самом деле – Карин), он же поручик Пантелеев, и Мильмана, из дела выяснил, что большинство показаний ответственных коммунистов говорит о том, что Каменев, будучи в Одессе, вел себя подозрительно, что выразилось в его близости к оказавшемуся провокатором Масальскому, он же в 1919 году рекомендовал его в ЧК и считался его лучшим товарищем; подробности о его действиях в Одессе можно видеть из показаний.
О Северном большинство коммунистов, знавших его по работе, отзываются очень хорошо и не сомневаются в его честности. Что касается Ракитина и Мильмана, то подробно о их деятельности в 1905 году и будто участии в эксах не удалось окончательно выяснить, но некоторые знавшие их и сидевшие с ними вместе в тюрьме утверждают, что все эти эксы носили политически-анархический характер, но ничуть не уголовный».
Золотусский посчитал составить окончательное заключение по этому делу невозможным, так как большинство ответственных работников, знавших вышеуказанных лиц близко по работе в Одессе, нет, а некоторых уже и нет в живых. «Имя Ракитина, – писал Золотусский, – фигурирует в деле своего родственника (тоже Броуна), служившего в шкуровском отряде при белых. В этом деле есть письмо Ракитина, где он просит его на поруки». Однако тут же следователь отмечал, что, по имеющимся у него от ряда работников сведениям, придавать особого значения этому факту не стоит, так как служивший добровольцем у Шкуро Броун – «мальчик-белоручка, увлекшийся погонами, но не убежденный контрреволюционер». О Карине, которого Золотусский упорно именует Кориным, собрать сведений ему вообще не удалось. Резюмируя все сказанное, Золотусский писал:
«Считаю дело незаконченным, но больше материала в Одессе не удалось собрать. Ракитин и Мильман теперь находятся в Харькове и многие работники… И там, я думаю, удастся окончательно закончить это дело» [467].
Выскажем предположение о дальнейшей судьбе Владимира Броуна, одного из очень немногих евреев, служивших в частях казачьего генерала Андрея Шкуро, как известно, отнюдь не отличавшегося филосемитизмом. Хорошо известен кинорежиссер-маринист Владимир Александрович Браун (1896–1957), прозванный «кино-Айвазовским», в 1930-1950-е годы поставивший такие популярные картины, как «Сокровища погибшего корабля», «Максимка», «Матрос Чижик», «Мальва». Браун родился в Елизаветграде в семье банковского служащего. Как мы помним, Каменев писал, что Броун-Ракитин являлся сыном елизаветградского банкира. Кроме того, фамилия «Броун» нередко в документах называлась «Брауном». Можно предположить, что отцы секретаря одесского губисполкома и кинорежиссера являлись родными братьями – отсюда неточность в показаниях Каменева, а Михаил и Владимир соответственно – двоюродными.
До 1918-го, а по другим данным, до 1919 года Браун учился на юрфаке Киевского университета и одновременно на экономическом отделении местного Коммерческого института, а затем опубликованные биографические сведения о нем как бы прерываются и возобновляются в 1921 году, когда он возглавил дивизионный красноармейский театр в Одессе. Демобилизовавшись в 1923 году, он устроился работать на руководимую неоднократно фигурировавшим в нашей книге Михаилом Капчинским Одесскую кинофабрику, но в следующем году уехал в Ленинград, где поступил в киномастерскую старейшего режиссера Александра Ивановского, и в 1925 году стал работать на предшественнике нынешнего «Ленфильма» кинофабрике Севзапкино. Здесь Браун сначала был ассистентом у таких известных режиссеров, как Чеслав Сабинский и Евгений Червяков, а на рубеже 1920-1930-х годов началась и его самостоятельная постановочная деятельность. Вполне можно предположить, что с 1919 до начала 1920 года он находился в отряде шкуровцев, куда был зачислен, несмотря на свою национальность, по причине высокого образовательного уровня, – основная масса служивших там казаков и лиц северокавказских национальностей была элементарно безграмотной или в лучшем случае малограмотной. Нужно отметить, что Владимир Браун в компартию до конца жизни не вступал и административных постов на киностудиях не занимал, что избавляло хотя бы от части политических и служебных проверок, – его белогвардейское прошлое и арест ЧК не вскрылись, иначе это могло бы иметь весьма неприятные последствия.
Вернемся к расследованию Одесской ЧК дела Северного-Ракитина. 15 апреля 1921 года Малая коллегия ОГЧК слушала дело № 7719 по обвинению в преступлении по должности (без арестованных) в отношении Северного, Ракитина и Мильмана. Было постановлено дело передать в ВЧК через ВУЧК, что и было сделано спустя 2 дня распоряжением председателя Губчека Дейча [468]. 6 мая 1921 г. дело № 7719 ОГЧК о Северном, Ракитине и Мильмане канцелярия Всеукраинской ЧК переслала в ВЧК. Уполномоченный Следчасти президиума ВЧК Я. А. Штаммер, рассмотрев дело ОГЧК по обвинению Северного, Ракитина и Мильмана в преступлении по должности и переписку, присланную командующим всеми Вооруженными силами на Украине по обвинению Каменева, постановил ввиду того, что фактов, уличающих означенных граждан в каких-либо преступлениях, в материалах не имеется, эти материалы направить в Оргинструкторский отдел ЦК [469].