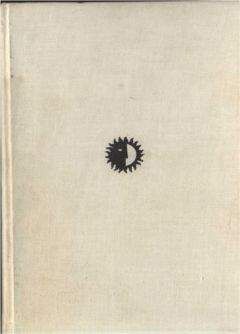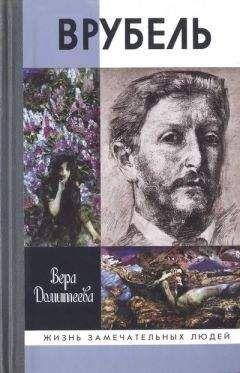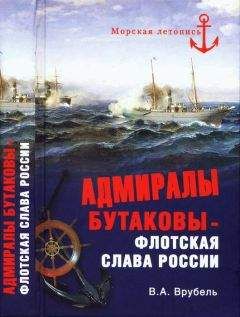Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
И.В. – Г.: О каком едином процессе вы говорите?! Андерграунд начался с отмены советской власти в художественных кругах, с отказа от участия в «едином процессе», в котором можно было неплохо существовать, и не только в материальном плане: можно было ездить за границу, выставляться, публиковаться и т. д. Но именно этот уход и позволил новому русскому искусству выйти на международную арену, стать полноправным участником мирового художественного процесса. Почему это писатели не пишут, а искусствоведы не думают? Потому что их не публикуют? Но все искусство андерграунда было в таком положении, однако и думали, и писали, и картинки рисовали… И, кстати, на Западе тоже никто никогда не уповал на людей, «ответственных за культуру», и так было всегда: ни государство, ни коллекционеры не кормили своих художников, пока они не заявляли о себе чем-то из ряда вон выходящим, – это нормальное положение вещей.
В.М.: Да, но, согласитесь, что в контексте советской культуры духовная, художественная культура обладала колоссальной значимостью. Это шло, собственно, еще от русской культуры, и советская власть законсервировала это наряду с другими мифами XIX века, наряду с очень многими классическими ценностями. А что такое сегодня структура современного искусства? Это омаразмевающий музей, совершенно лишенный полноценных специалистов, лишенный средств для закупки произведений. В этих музеях до сих пор – да в сущности прошло ведь не так много времени – работают все те же люди, и обновления не происходит. Я могу лично об этом свидетельствовать: я ушел из Пушкинского музея в 90-м году; и это безумно дорогое для меня место все больше и больше превращается в склеп. Единственное, что там меняется, – оттуда все чаще уходят; музей как место притяжения талантливых людей вообще исчезает. Сегодня музеи потеряли свою престижность, свою аттрактивность точно так же, как вообще занятия гуманитарными профессиями. Вот это все и страшно – этот процесс. Стало банальностью говорить о распаде. Но когда ты переживаешь это сам, когда ты видишь, как какой-нибудь Кабаков переехал; какой-нибудь Эрик Булатов – его мастерская на Чистых прудах опустела; кто-то заболел, кто-то… И начинаешь понимать, насколько эти люди невосполнимы, а процесс необратим. И меня пугает, что к тому времени, когда появится стабильность, сложатся новые организмы – хотя пока непонятно, что это будет за общество, что за модель развития, – что к этому моменту от художественной культуры просто ничего не останется, будет просто поздно. И сколько времени понадобится, чтобы культура воспроизвелась, приобрела сочность и полноценность, чтобы восстановить те силы, которые сейчас еще есть? Все крайне хрупко, все ломается и исчезает на глазах.
И.В. – Г.: А что представляет из себя художественная среда? Кто потребители искусства? Я имею в виду и тех, кто покупает, и тех, кого это просто интересует. Ведь существуют, в принципе, всего две структуры, поддерживающие искусство: государство и общество. Если государство сейчас не функционирует, то, возможно, эту роль взяло на себя общество?
В.М.: Общество коллапсирует; рынка нет. Для того, чтобы у искусства был какой-то постоянный потребитель, необходимо, чтобы и в обществе была какая-то элементарная стабильность. А в контексте современного общества в России, общества, одержимого приватизацией и другими, далекими от духовных экстазов вещами, живущего экстазами, предельно брутальными, живущего криминализированными страстями, – в таком контексте культура действительно вытесняется на самую обочину.
И.В. – Г.: Все это очень печально. Но поговорим все-таки о том, что есть, а не о том, чего нет. Вы работаете в Центре современного искусства; на сегодняшний день в мировой практике существует тенденция – куратор как художник, как создатель произведения искусства. Вы видите себя таким куратором?
В.М.: Я и мои друзья-коллеги вообще впервые в России подняли вопрос о праве на существование такой фигуры куратора. Кстати, я заметил, что все мы очень быстро проскочили через несколько стадий, которые в Европе развивались на протяжении десятилетий, – где-то в пятидесятых появились первые фигуры, претендующие на функцию куратора. Первые мои выставки были, если можно так сказать, эмиссарскими: я вытаскивал художников из немой массы и вывозил их на Запад. Потом я был куратором-концептологом, куратором-артистом: я реально заменил художников: работы были не принципиальны в той концептуальной игре, которую я разворачивал в композиционном пространстве, и выставка становилась моей инсталляцией. Но сейчас мы прошли этот период, и ситуация стала более сложной: я как куратор, как творческая фигура разделяю с художником новую проблему взыскания своей идентичности как перед лицом новых проблем в России, так и перед лицом вообще искусства, его места в сегодняшней цивилизации; хотя мне и кажется, что это место на сегодня проблематично; похоже, что – пока во всяком случае – место это утеряно. Сегодня я называю себя куратором-медиатором. Моя функция состоит в том, чтобы собрать уцелевших от кораблекрушения.
И.В. – Г.: Художников или идеологии?
В.М.: Всех, кого можно, всех, кто уцелел; собрать и создать ситуацию коллективного обсуждения происшедшего. Медиатор – это человек, ведущий собеседование, диалог, коллоквиум, и его функция – точно выбрать людей, которых стоит пригласить сесть за стол, точно сформулировать жанр работы, ее режим и тему, направление и постараться вести этот процесс. Причем это диалогирование должно носить тотальный характер, потому что одинаково тошно сейчас не только художникам, но, в общем, всем. Вот этому и посвящена моя работа в Центре современного искусства. В прошлом году я провел выставку, которая называлась «Гамбургский проект». Исходно она была предназначена для репрезентации на ярмарке в Гамбурге. Началось с того, что я предложил художникам сесть вместе и обсудить, что же это должна быть за выставка. И в результате мы отказались на нее ехать. Это был жест, если хотите, нравственного характера. Потому что проблематичность существования искусства, его права на существование в первую очередь ставит под вопрос и делает уязвимым такой пласт жизни, как репрезентация. У меня возникло ощущение, что эта проблема носит универсальный характер и я как субъект художественной культуры должен разделить ее с другими субъектами художественной культуры, подвергнуть разговору и анализу в тех формах, которые мы исходя из коллективного собеседования сочтем возможными и уместными. Я поставил вопрос принципиально: Центр современного искусства приглашен на ярмарку.
А что такое Центр современного искусства? Каково его место, его функции, каковы правильные взаимоотношения между художниками? Прав ли я, что я вижу кризис самой жизни художественных институтов? И в течение трех месяцев мы собирались и говорили, говорили, это были бесконечные, изнурительные споры, и мы все время возвращались к одному и тому же. Это то состояние фрустрированного одиночества, когда один человек не может прорваться к другому, не может найти консенсуса; нет новой, единой позиции, но невозможно и оставаться в одиночестве. Это был удивительный для меня опыт – опыт бесконечного говорения. Затем мы нашли единственно возможный выход: мы превратили состояние постоянного вопрошания и постоянного соотношения себя с другим в основу некоего художественного события: художники принесли по одному объекту, символизирующему их индивидуальное кредо; то, что можно назвать «я есть». Они положили все это на стол, я вынес стол в экспозиционное пространство и тем уведомил публику, что начался «Гамбургский проект», его экспозиционная стадия. Затем художники начали создавать работы, которые были референтны к объекту другого художника; затем новые работы, референтные уже друг к другу. И все это превратилось в разворачивающееся событие. Оно окончилось, когда мы это решили в какой-то момент, хотя, по идее, конца не могло и не должно было быть. И в день, когда мы сидели и выпивали после вернисажа, художники сказали: «А давай мы это потом опять соберем, поставим на место и начнем по новой». Потому что в какой-то мере это задело некий очень больной узел. Собственно, вся работа свелась к тому, что на протяжении прошлого года это был постоянный режим тех или иных семинаров и собеседований. Был период – это всеми было признано наиболее ярким событием, – когда художники работали с философами; на этой основе создавались работы, делались блестящие перформансы. Иногда вкладом художника мог быть не объект, а речь, воспоминания, рассказ. И все это – объекты, речь, перформансы – вкладывалось художниками не как объект для продажи, для презентации, для повески, а для этого узкого замкнутого круга; ценность объекта состояла в том, что он стимулировал обсуждение, стимулировал мысль. И в этой ситуации я свел роль куратора к его почти полному отсутствию – хотя это может показаться эксцентричным. На одном из семинаров я вообще ни разу не открыл рта: я разносил чай и зажигал сигареты. Я решил, что куратор должен самоаннигилироваться, потому что, внедряясь в собеседование, он вносит элемент власти. И мне показалось, что это был мой нравственный жест – самоуничтожение. Вот такой был опыт, и он оказался очень эффективным – опыт воздержания, аскетизма, отказа, погружения. В чем-то, как ни странно, это было возвращение к андерграундной закрытости, но на новом этапе. Тогда все это складывалось органично, а сейчас это происходит уже после всего – после Биенале, после Документы и так далее. Этот великий отказ происходил коллективно, и я, раз я сам это сделал, разделяю инновантный характер работы с моими друзьями художниками.