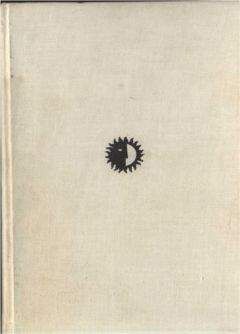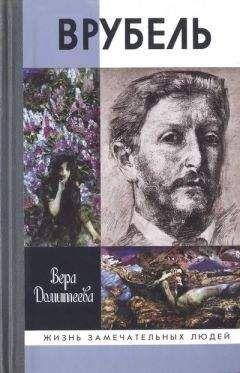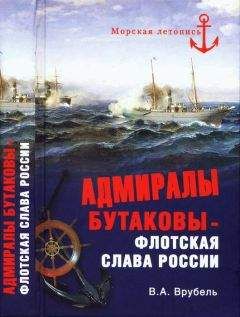Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
И.В. – Г.: И чему они адекватны? Как вы можете определить их отличие: в чем они новые, в чем соответствуют сегодняшней русской ситуации?
В.М.: Прежде всего эти люди существуют уже в совершенно других социальных условиях, другом режиме репрезентации, в другом ритме вообще и не на правах и условиях замкнутого на себя явления. Сегодня это иной общественный и культурный контекст – контекст интернациональной сцены, которого никогда раньше не было. Но сказать, кто они, что они, дать им какое-то безусловное определение, мне кажется, было бы просто очень рано. Единственное возможное определение состоит в том, что самоидентификация является для них центральной проблемой. Парадоксальная сложность этой самоидентификации, до известной степени, может быть, даже ее неосуществимость, а если осуществимость, то лишь при очень больших допущениях, которые сами носят характер скорее визионерства, чем чего-то реального, – вот, что, собственно говоря, и характеризует этих людей, определяет период в целом, когда творчество художников можно рассматривать как переходное. Это совершенно не делает уязвимой их работу – она абсолютно полноценна, она живет колоссальной энергией этой эпохи, этого момента в истории русского общества, которое само по себе полностью адекватно творчеству этих художников, потому что оно тоже пребывает в состоянии самоидентификации: Россия сейчас – это постоянное вопрошание; ее общество, ее культура, ее судьба в наши дни – это чистая потенциальность.
И.В. – Г.: Но какая-то позитивная тенденция все-таки существует? Вот вы говорите, что искусство, которое идет от концептуализма и которое в свое время утвердило себя в России и выплеснулось на Запад, перестало быть для России функцией. А это новое искусство – на каких основах оно начало развиваться после того, как отвергло все прошлые ситуации? На изменении политической ситуации? На преемственности? На традиции западного искусства, как его видела Россия? Или только на распаде, дистрофии?
В.М.: Основное – и это, на мой взгляд, является симптоматикой переходного периода – то, что мы не имеем дела с единой тенденцией, с единым направлением.
И.В. – Г.: Но весь мир не имеет дела с единой тенденцией – и уже очень давно…
В.М.: Я готов согласиться; да, я не склонен считать, что опыт, которым живут эти люди, обладает своей маргинальной уникальностью. Хотя… говорят, что мы пережили эпоху, когда люди гордились и кичились своими успехами, а сейчас настала эпоха, когда все кичатся своими катастрофами. С этой точки зрения, я думаю, уникальность московского опыта все же существует и состоит он в том, что этот катастрофизм московская сцена, как, впрочем, и вообще московское сознание, российское сознание переживает с особой остротой и драматичностью.
И.В. – Г.: С того момента, как русский андерграунд отчетливо заявил о себе, ситуация в российском искусстве перестала быть катастрофичной: человек вполне мог себе позволить быть индивидуальным. И вот опять такое обобщение, соединение по одному признаку – по признаку катастрофы. Да, страна разваливается; но не кажется ли вам, что приобщение искусства к крушению России, которое при этом не является для каждого личным крахом, означает отход на старые позиции, позиции коллективизма? И не противоречите ли вы самому себе: ведь вы одновременно утверждаете, что главное в сегодняшнем московском искусстве – индивидуализация? Как это сочетается?
В.М.: Когда я говорю об индивидуализации, об отсутствии единого процесса, я не отождествляю это с катастрофой; и, когда я говорю о переходности, я не окрашиваю это в тона драматические. Дело в том, что в целом, в тот момент, когда катастрофа разразилась в своих самых масштабных и зрелищных формах, то субъективно это тогда все-таки переживалось как освобождение. Сейчас же есть один процесс – энтропированность, индивидуализация; и в нашем случае это процесс очень позитивный, симптоматичный для состояния культуры в переходный период, когда культура лишена единых скреп. Мне кажется очень важным, что на московской сцене сосуществуют очень разные и специфические фигуры, которые, в общем, очень трудно смыкаются между собой. Попытаюсь все-таки предложить какую-то систематизацию этих индивидуальностей. Во-первых, есть одна линия, достаточно очевидная: это линия «музеизации», «архивизации» – направление как бы «охранительского» характера. Здесь работают как раз молодые художники, которые так или иначе связаны с опытом концептуальной андерграундной традиции. Но при этом они молодые люди, пользующиеся безусловным авторитетом и представляющие ценность для сегодняшнего художественного развития. Это очень интересно, и значимо, и, по-моему, очень закономерно: перед лицом катастрофы, перед лицом энтропии, распада обращаться к апологии архивирования состоявшегося, к коллекционированию и документированию конкретной художественной стратегии. Это и Вадим Захаров, и деятельность «Медицинской герменевтики». С другой стороны, существуют совершенно иные позиции: Анатолий Осмоловский, художник, работающий с проблематикой телесности, жизненного стихийного порыва; и совершенно противоположный ему, такой интеллектуально изощренный, неоконцепту-алистически ориентированный человек, как Юрий Лейдерман, работающий не с телесностью, не со стихией, а постоянно взыскующий онтологии, нового космоса, нового жесткого порядка бытия. Таких контрастов можно назвать очень много, если идти по персоналиям. Есть Дмитрий Гутов, аналитик и сторонник ясной критической мысли, почти просвещенческой; и есть прагматик Гия Ригвава. Или еще один тип, который я условно назвал бы «люди, которые работают в некоей политике реальности». Категория реальности – достаточно архаичная категория сознания, и мне кажется интересной попытка реабилитировать ее в новых условиях, доказать самое право ее на существование. Последние два десятилетия это, казалось бы, было почти полностью релятивизировано и художественный опыт постоянно настаивал на предельной проблематичности этого понятия, на его предельной растворенности в тех или иных формах мышления, в тех или иных знаковых моделях; это, собственно, и было позицией московского концептуализма. Сейчас же возникают фигуры, которые очень упорно, настойчиво пытаются доказать, что прорыв к реальности – к чему-то подлинному, незамутненному, лишенному каких бы то ни было медиаторов или инстанций медитативного характера, – что такой прорыв возможен. На этом настаивает целый ряд художников, очень разных, и для них это очень важно. И мне приходит в голову такая мысль, что в этой жажде реальности в искусстве я на самом деле вижу аналог процесса приватизации. Действительно, то, что происходит в этом направлении в искусстве, ассоциируется с той жадностью, одержимостью, с которой сейчас идет процесс присвоения реальности в виде собственности – земель, заводов, валютных запасов, ваучеров – и прочего, и прочего.
И.В. – Г.: Когда-то Пушкин писал критику на «Путешествие из Петербурга в Москву». Там в ответ на вопрошание Радищева: «Что может быть страшнее жизни русского крестьянина?!» Пушкин отвечает: «Жизнь английского фабричного рабочего». Я почему-то вспомнила это, слушая вас. Итак, все прекрасно, художники работают и, судя по всему, весьма интересно, по-разному, в разных направлениях… Откуда же тогда это ощущение катастрофы, о котором вы все время говорите, ощущение, настолько сильное, что все-таки, несмотря на все оговорки, вы сказали об этом как о некоем объединяющем всех признаке?
В.М.: Да, у меня впервые – раньше этого не было – возникают тревожные рефлексии. Но это касается не столько развития московской художественной жизни, самого художественного процесса, сколько всего социокультурного контекста. Вот там, действительно, процесс индивидуализации, энтропии вызывает предельную тревогу. Художественный процесс может структурироваться на очень разных вещах: может – по принципу единых блоков, а может – по системе разведенных центров; и это нормально. Но он состоятелен, он может нормально функционировать только в составе некоего социокультурного организма. А когда распад и деструкция проходят по самому организму – ну, когда, например, книжки не издаются, журналы не выходят, телевидение не показывает, галереи не работают, музеи не выставляют и не покупают; когда писатели не в состоянии писать, историки искусства – думать и описывать, художники – реализовываться и репрезентировать; когда общество объято чистой агрессией, а люди, ответственные за культуру, пребывают в состоянии утробной одержимости, – это уже, действительно, признаки того, что все это не структурировано в некий единый процесс, и это уже тревожно.
И.В. – Г.: О каком едином процессе вы говорите?! Андерграунд начался с отмены советской власти в художественных кругах, с отказа от участия в «едином процессе», в котором можно было неплохо существовать, и не только в материальном плане: можно было ездить за границу, выставляться, публиковаться и т. д. Но именно этот уход и позволил новому русскому искусству выйти на международную арену, стать полноправным участником мирового художественного процесса. Почему это писатели не пишут, а искусствоведы не думают? Потому что их не публикуют? Но все искусство андерграунда было в таком положении, однако и думали, и писали, и картинки рисовали… И, кстати, на Западе тоже никто никогда не уповал на людей, «ответственных за культуру», и так было всегда: ни государство, ни коллекционеры не кормили своих художников, пока они не заявляли о себе чем-то из ряда вон выходящим, – это нормальное положение вещей.