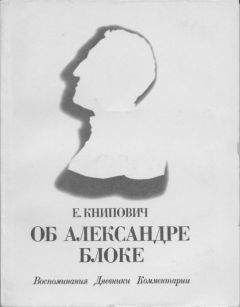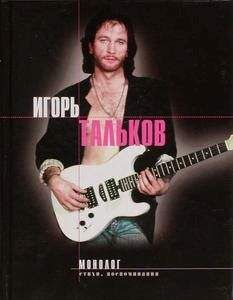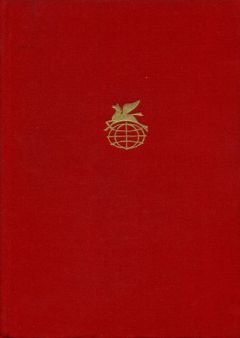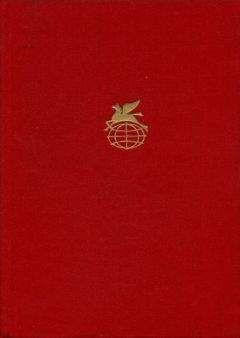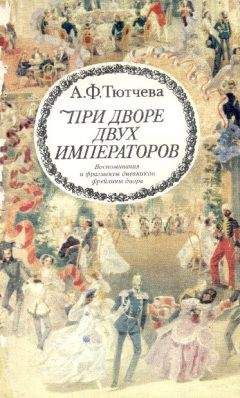Владимир Костицын - «Мое утраченное счастье…» Воспоминания, дневники
Готовить было особенно не из чего, но все-таки это был уже не 1920 год. С нашей части огорода мы имели свежие овощи и салат; академический паек давал нам мясо, масло и многое другое, магнитный паек – кроликов, зайцев и дичь; в других учреждениях тоже бывали выдачи (в Коммунистическом университете – хлеб, крупа, сахар, колбаса). Лес давал нам землянику и малину, сад – вишню. Таким образом, мы уже не голодали и могли хорошо накормить Ивана Григорьевича. После обеда немного болтали – о Côte d’Azur, о Париже, о лангустах и сотерне, о «Sole aux moules et écrevisses».[427] Иван Григорьевич немного отдыхал, и вечером после чая мы провожали его к поезду.
В Кучине, как и в других научных загородных учреждениях, было в обычае кормить приезжающих специалистов. Эта повинность была переходящей, и очередь иногда падала на нас. За это лето мы принимали у себя директора Главной палаты мер и весов Ф. И. Блумбаха, директора Пулковской обсерватории А. А. Иванова и директора (кратковременного) Главной геофизической обсерватории Н. А. Коростелева. Когда приезжали целые группы, устраивался общий обед. Так было, когда мы праздновали окончание постройки сейсмической станции: приехал Иван Иванович Гливенко в сопровождении ряда сановников из Наркомпроса. В таких случаях обед бывал в столовой Рябушинского, убранной в топорном русском вкусе и уставленной крайне неудобной мебелью в том же вкусе, с вертикальными спинками стульев и т. д.
Кстати, об огороде. Мы возделывали его сами: взяли тачку и отправились с ней за удобрением в конюшни второго имения: лошадей там уже давно не было, но ссохшиеся следы их пребывания имелись, и мне стоило большого труда отковыривать их лопатой. Мы посадили огурцы, томаты, редиску, морковь, репу, горошек; кроме того, на общем поле были засеяны картошка и капуста. Для того, чтобы из деревни Кучино не являлись мародеры, на наших плантациях были установлены ночные дежурства. Одну из ночей я дежурил с Чаплыгиным, другую – с Сабининым. Я помню также, как весь персонал с семьями высыпал в поле копать картошку, и с каким увлечением ты предавалась этому занятию: перед тем, как вскапывать землю под каким-нибудь кустиком, ты загадывала, сколько и каких картошек мы найдем.[428]
Погода в общем стояла хорошая, но бывали дожди и грозы, тогда как на Оке и Волге было знойно и сухо. Из Бабурино приходили тревожные вести: посевы погибли, сена оказалось недостаточное количество, лошадь пала. Я тщетно старался достать лошадь из демобилизованного контингента, а денежная помощь, которую мог оказать, была совершенно недостаточна. Вести с Волги приходили все хуже и хуже. С июля месяца в Москве стали появляться беженцы: целыми семьями, поездом или пешком, они добирались до столицы и ложились у заборов на привокзальных улицах, забирались в разрушенные дома, скоплялись на пустырях. У них редко хватало энергии что-нибудь предпринять: покорно лежали и умирали зачастую тут же; дети и подростки образовывали банды, о которых всё с большим и большим испугом говорили обыватели. Появились слухи о людоедстве (оправдавшиеся) и колбасах из человеческого мяса. В этом обвиняли, в частности, очень толстую чайную колбасу, и как раз в одной из выдач мы получили ее довольно много и съели всю, хотя и с сомнениями.
В июле или августе мне пришлось неделю провести в Москве: Наркомпрос, вернее – Главпрофобр, созвал конференцию представителей высших учебных заведений, и я должен был присутствовать на ней как член Государственного ученого совета. Отношения между властью и профессурой становились все хуже и хуже. Борьба с царским правительством шла в высшей школе под знаменем автономии, и одной из первых мер Временного правительства было установление ее. Поэтому профессура была очень удивлена, а потом и раздражена, когда Наркомпрос встал на путь борьбы с автономией. М. Н. Покровский, сторонник и в значительной мере инициатор этой политики, мог бы проводить ее спокойным и деловым образом; вместо этого он принял ряд противоречивых и бестактных мер, которые раздражали профессуру и усиливали хаос в высшей школе.
Не разбираясь в людях, Покровский назначал на ответственные посты лиц с сомнительной репутацией, двурушников, к которым можно было относиться только с презрением. Отсюда получались весьма для него (а следовательно, и для власти) конфузные диалоги, как, например, с профессором Зерновым, директором Петроградского технологического института. Дело было на первом же заседании конференции:
Покровский: Мы, конечно, будем жестко реагировать на контрреволюционные происки профессуры. Вот вам пример: мы послали преподавать в Технологический институт одного из наших давних и хороших товарищей, а профессор Зернов, здесь присутствующий, не допустил его к преподаванию.
Зернов: Да, и очень хорошо сделал – для вашей же деловой репутации: это лицо не имеет никакой подготовки для преподавания того основного курса, который вы для него предназначили.
Покровский: Неправда: вы не захотели его из-за его левой репутации.
Зернов: Помилуйте, Михаил Николаевич, ведь до 1917 года я знал его как октябриста.
Покровский (с иронией): И как патриота?
Зернов: Не очень. Не желая ехать на фронт, он все время приставал ко мне, чтобы я устроил его при Военно-промышленном комитете. Откуда я мог знать, что он – ваш давний и хороший товарищ?
Покровский: Я лишаю вас слова.
В общем, все заседания конференции велись в этом духе: мелкие уколы, бессмысленно раздражающие меры, нажим и наскок и никакой деловой программы. Конференция не дала никакого положительного результата и оттолкнула многих, хорошо расположенных, людей.
В последний день конференции ты приехала в Москву, чтобы забрать меня в Кучин. Поезд уходил около шести часов вечера. Мы уложили свой багаж (он всегда бывал очень обильный), я нагрузил его на плечи, и мы отправились пешком на Курский вокзал. День был грозовой. Не успели мы сделать и половины пути, как хлынул дождь, да какой! Что бы ему выпасть в Бабурино? Пережидать невозможно: времени – в обрез; извозчиков не было. Кое-как мы добрались до вокзала, втиснувшись в поезд, и в Кучине имели еще одну, хотя и кратковременную, но основательную поливку. И, как всегда в таких случаях, ты встречала неприятность с твоей ясной и хорошей улыбкой, без воркотни. У тебя никогда не было побуждения (а я грешил этим) сказать: «вот, я тебе говорила» и т. д. С тобой всегда бывало удивительно легко, и одного твоего присутствия оказывалось достаточно, чтобы проходить через мелкие и крупные огорчения, не замечая их.[429]
Другое летнее дело, которое заставило меня провести две недели в Москве, – председательствование в приемной комиссии. Положение было парадоксальное. Я был заместителем декана. Обязанности декана до 1 сентября исполнял профессор Настюков, а я значился в отпуске, но от Наркомпроса был назначен председателем комиссии для приема студентов на наш факультет. В комиссию входили тот же Настюков как представитель факультета и три студента-комсомольца. Студенты очень напирали на социальное происхождение, и мне с большой затратой аргументов, цитат из Маркса и Энгельса (и из Ленина: Сталин еще не был классиком), удалось умерить их и убедить, что так же, как и рабочие, представители народной интеллигенции заслуживают, чтобы их дети имели право на высшее образование. Отводы имели место, но их было сравнительно мало. В результате просмотра документов оказалось значительное количество кандидатов, достойных приема. Появился вопрос, сколько факультет может вместить. Если бы оказалось, что число возможных вакансий значительно меньше числа кандидатов, нужно было бы снова проводить отбор.
Я обратился к Настюкову и сказал: «Мы, математики, не имеем лабораторий, а вместимость аудиторий очень велика. Да и не к нам пойдет большинство. Вы – представитель экспериментальной дисциплины. Можете ли вы созвать представителей лабораторий и выяснить, каким количеством мест мы располагаем?» Через несколько дней Настюков принес ответ, который меня очень удивил, а именно, что можно принять всех кандидатов. Мне казалось, что тут что-то не так, но протестовать я не мог, и мы приняли всех. А с началом занятий выяснилось, во-первых, что число мест совершенно недостаточно, и, во-вторых, что Настюков и его комиссия подсчитали число мест во всех лабораториях, тогда как речь шла о лабораториях, обслуживающих первый курс. Я и до сих пор не знаю, были ли эта ошибка случайной или намеренной.
Во всяком случае, в течение всего следующего года нам очень пришлось повозиться, чтобы обеспечить всех принятых местами на практических занятиях. Огромное большинство этих студентов оказалось криптомедиками: дело в том, что на медицинский факультет прием был очень ограничен, а по старым правилам лица, проделавшие два курса естественного отделения и сдавшие переходные экзамены, принимались на медицинский факультет без экзамена и вне контингента. Поэтому специальность «биология» оказалась переполненной, и к нормальному состоянию наши лаборатории вернулись только к 1923–24 учебному году.[430]