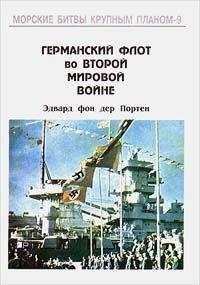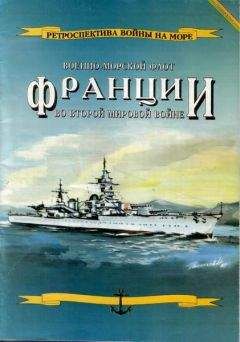Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень
Поэтому религиозность Чаадаева совсем не кажется неясной, скорее, напротив. Конечно, это не обычный католицизм: «Вы… неправы, когда определили меня как истинного католика… Моя религия не совсем совпадает с религией богословов… пожалуй, что это и не религия народов».[37] Это – уравновешенное мировоззрение христианского интеллектуала (не без влияния католического масонства), умеренного консерватора, аристократа с развитым чувством собственного достоинства, в стиле Шеллинга или Жозефа де Местра, своеобразный религиозный рационализм, прекрасно сознающий ограниченность человеческого ratio и опасность, которую он в себе таит, но вместе с тем нисколько его не уничижающий. Мировоззрение, совсем не склонное к беспрестанному переживанию собственной ничтожности и греховности, но и никогда не забывающее, что человек навсегда поражен грехом. Бог Чаадаева – это не Бог «Авраама, Исаака и Иакова», а как раз Бог «философов и ученых». Это – религиозность, в которой нет драматического противоречия между верой и знанием, церковью и культурой, религией и цивилизацией, жизнью и знанием о ней (впрочем, у Чаадаева явно преобладало последнее). Представить Чаадаева, сжигающим свои рукописи после обращения, подобно Гоголю, раздираемого противоречиями, как Достоевский, или же опрощающимся и устраивающим культурный погром, как поздний Лев Толстой или русские сектанты, – совершенно невозможно. Его культурный идеал – гармоническое равновесие в духе пушкинского гения, которое сам Чаадаев на родной почве так и не смог обрести.
Диалог же Чаадаева с Якушкиным еще раз демонстрирует вековечный конфликт между «русским исихазмом» и западной метафизикой с ее положительным логико-понятийным мышлением, пытающейся не только постич и овладеть Истиной, но и, в конечном счете, заменить живую динамику жизни знанием о ней: схемами, нормативами, предписаниями – спобом мышления, постоянно проникавшим извне, время от времени отвоевывавшим себе территории, но в результате всегда терпевшим крушение. Философия на христианском
Западе сначала рождается из богословия, позднее отталкиваясь и отходя от него. В Россию же философия, культура, образование после «кризиса русского византинизма» приходят из Европы вместе с «латинством» или протестантизмом, а их здесь встречали очень недружелюбно. «Басманного философа» в гневе бранили «самозванцем» («нет больше самозванства в истории русской мысли»[38]). В каком-то смысле это очень точное определение: метафизик в апофатической культуре чаще всего интеллектуальный самозванец – «латинянин», еретик или отступник… Многие из них, впрочем, не были философами, но существует общая линия, которая объединяет имена разного уровня и калибра: Печерин, Чаадаев, М. Лунин, князь И. С. Гагарин, Владимир Соловьев, его племянник и биограф С. М. Соловьев – поэт «серебряного века», ставший католическим священником, Вячеслав Иванов, отчасти Бердяев, с его ориентацией на творчество и католическую мистику, и другие: что искали они в Риме и католичестве? Их влекла туда именно тоска по религиозному оправданию творчества и знания, и они вольно или невольно отталкивались от русского восприятия православия в «его восточной стихии, с “царем-батюшкой”, с полной пассивностью, смирением, сознанием коренной порчи человеческой природы, бессилия личности перед судьбой и надеждой на милосердие Божие».[39]
Даже Константин Леонтьев, с его «византийством» и глубинным мистическим обскурантизмом, как надломленный аристократ и философ-одиночка, хотя бы частью своей души оказывается близок этой традиции. Всего за полгода до монашеского пострига он писал: «Я не скрою от вас мои “немощи”: мне лично папская непогрешимость ужасно нравится! “Старец старцев”. Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не только что руку… Уж на что Т. е. Филиппов строгий защитник “старого” православия, но и тот говорит всегда: искренне верующий православный не может не сочувствовать католикам во многом… И вынужден даже нередко из усердия к своей вере завидовать им». И в другом месте: «В истории католичества, что ни шаг, то творчество, своеобразие, независимость, сила… Католицизм – религия такая могучая и полная, какой, быть может, не было на земле…».[40]
Как бы то ни было, время все равно течет, история все равно существует, даже двигаясь к своему неизбежному финалу, она задает вопросы, на которые необходимо отвечать – иначе образуются провалы, разрывы, крушения, и общество спотыкается на одном и том же месте, бесконечно повторяя старые ошибки… Поэтому главная историософская тема «русских католиков», и, прежде всего, Чаадаева, – религиозное оправдание исторического творчества и духовной активности. Попытка критического самопознания «в царстве недумания» была предпринята именно для того, чтобы в отеческий мир благодатной безответственности и очаровательной невменяемости, где все как бы отвечают друг за друга, но никто не отвечает за себя, внести идею религиозной и моральной ответственности, в бытовое исповедничество – осмысление и понимание, в мутную хаотическую жизнь – форму, уважение к себе и чувство собственного достоинства.
У Гоголя в «Переписке…» есть замечательная сцена идеально справедливого суда, когда власть в лице помещика или начальника наделяется автором правом суда не только человеческого, но и Божеского. Мы, говорит Гоголь, набрались «пустых рыцарски-европейских понятий о правде», истинное же правосудие означает, что все виновны, в высшем смысле нет ни правого, ни виноватого. Поэтому истинный суд – это суд комендантши из «Капитанской дочки», которая дала «судье» такой наказ: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».
Сто лет спустя Герман Гессе из немецко-швейцарского далека в эссе «Братья Карамазовы, или Закат Европы» с романтическим восхищением описывал подобное «азиатское единство противоположностей»: «Русский человек, Карамазов, – это одновременно и убийца, и судья, варвар и человек нежнейшей души, он в такой же степени законченный эгоист, в какой способен на совершенную жертву. К нему не применима европейская, то есть твердая, моральная, догматическая точка зрения. В этом человеке внешнее и внутреннее, добро и зло, Бог и сатана неразрывно слиты».[41]
Чаадаев, набравшийся «пустых рыцарски-европейских понятий» и, видимо, предчувствуя, что смогут натворить «Карамазовы» в будущем, как раз пытался «развести» жертву и преступника, различать уровни бытия и судить их с точки зрения твердой, моральной, догматической, с помощью идей «долга, справедливости, права, порядка», но потерпел полное поражение. В сущности, никто даже не понял, что он хотел сказать… Даже Пушкин, относившийся к Чаадаеву с несомненным уважением, но вместе с тем, как поэт – к философу с той иронией, с которой Жизнь относится к чрезмерному знанию о себе, в ответ на историософские вопрошания своего друга в известном письме противопоставил им чисто внешний, событийный ряд фактов из русской истории, которых, разумеется, было более чем достаточно. Но речь ведь шла совсем о другом – о смыслах и сущностях, а не об эмпирических фактах… А на его религиозные вопрошания Пушкин отделался несколькими дежурными фразами, в частности, о невежестве русского духовенства: «Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу», – что характеризует не только отношение автора «Гавриилиады» к духовному сословию и церкви, но и к значительной части русской аристократии. Поэт и философ говорили на совершенно различных языках и, вопреки ныне широко распространенному мнению, диалога не получилось…
Но, несмотря на всеобщее непонимание и осуждение, Чаадаев не раскаялся. 1836 год напугал и раздавил его, но, почти ничего не написав, он упорствовал в собственных заблуждениях до конца своих дней. Вместо покаянной исповеди он начал сочинять неоконченную «Апологию сумасшедшего», и, подписывая некоторые свои письма «Безумный», не без иронического удовольствия любил говорить по-французски: «Mon illustre demenee» («Мое блестящее безумие»).[42]
«Плач ума»: интеллектуальное юродство как невозможность философии
Русский ли характер, исторические ли условия влияли тут – не берусь решать. Но несомненно, что философии «головной» у нас не повезло. Стародумовское: «… ум, коли он только ум, – сущая безделица» – находит отклик, кажется, во всяком русском…
Павел ФлоренскийОт святоотеческого апофатического незнания – точнее от его своеобразного преломления на русской почве, идет и многовековая традиция интеллектуального юродства, бесконечного поношения не только «еллинского блядословия», но всякого горделивого высокоумия, любомудрия как духовной роскоши, и восхваление собственного неведения, незнания, умственной немощи, невежества – традиция, часто исходящая от самых образованных людей своего времени. В православной аскетике это называется «плач ума» и восходит к посланиям апостола Павла. Но важно проследить, как эта установка меняется при переходе из религиозной культуры в светскую.