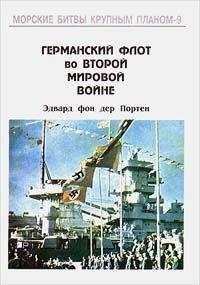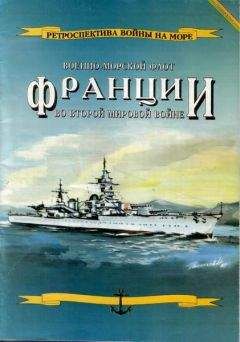Павел Кузнецов - Русское молчание: изба и камень
Горе от ума: рождение философии и крушение нарцисса
К глупым полон благодати/К умным бесконечно строг,/Бог всего, что есть некстати,/ Вот он, вот он, русский Бог.
П. А. Вяземский. «Русский Бог»Античный миф о Нарциссе заканчивается печально. Все версии этого мифа рассказывают нам, как прекрасный юноша, отвергнувший любовь нимфы Эхо, сознавая всю безнадежность своего положения, умирает вместе со своим отраженным двойником. Судьба же метафизического нарцисса в любые времена драматична, а Данте в «Божественной комедии» вообще помещает Нарцисса в ад. Как проницательно пишет один психоаналитик, «нарцисс всегда печален, в самом деле, разве можно найти удовлетворение в любви к самому себе?»[19] Неудивительно, что большую часть жизни Петра Яковлевича Чаадаева преследовала мучительная и необъяснимая тоска: как тогда говорили, – сплин, хандра, ипохондрия… Эта тоска преследовала философа всегда и везде – в Москве, в своем имении, во время трехлетнего путешествия по Европе (куда он отчасти и поехал, чтобы лечиться от нее), в юности, зрелости и на закате жизни. Правда, в то время тоска была в моде: волны романтической «мировой скорби», прокатившиеся по Европе, достигли и России, но философу она была как-то не совсем к лицу. Трудно представить себе Гегеля, Шеллинга или очень близкого Чаадаеву Жозефа де Местра беспрестанно хандрящими и тоскующими, а время Шопенгауэра еще не наступило. Голубоглазые нарциссы романтизма – от Новалиса до Байрона и Шелли, – словно спустившиеся с небес, чтобы преобразить убогий человеческий мир, не найдя здесь ответной любви и восхищения, наполнили Европу скорбью, меланхолией и тоской. Байронические чувства посещали и молодого Чаадаева («Дураки, они не знают, что тот, кто презирает мир, не думает о его исправлении»[20]). Но по духу Чаадаев совсем не романтик, его тоска другая, не романтическая – когда на смену отчаянию может столь же быстро придти вдохновение. Его тоска глубже, тяжелее, это, скорее, тоска гегелевского «несчастного сознания», мучительная тяжба с самим собой, из которой возможен только выход к Абсолюту. Разум философа был достаточно силен, чтобы осознавать свою ограниченность. Отсюда его крайний антиперсонализм, постоянные попытки самопреодоления: «Как я ни бьюсь, между мной и истиной становится нечто постороннее – я сам. Следовательно, есть лишь одно средство ее открыть – отстранить мое я». «Что нужно для того, чтобы ясно видеть? Не смотреть сквозь самого себя…» И, наконец, неожиданно звучащий не совсем по-христиански вывод: «Назначение человека – уничтожение личного бытия и замена его бытием вполне социальным или безличным».[21] Очевидно, что эта максима развилась под пером чрезмерно развитой индивидуальности, которой слишком тяжело от своей исключительности и непохожести на других. Эта разъединенность, дистанция, некогда воздвигнутая между собой и миром, теперь заставляет его страдать. Рождающееся самосознание тот час же обнаруживает главного противника – себя самого: нарциссическая любовь превращается в ненависть. Происходит раздвоение самосознания, и мы присутствуем при рождении метафизической рефлексии, философского вопрошания…
Гегель в своих «Лекциях по истории философии» замечательно говорит о рождении духа метафизики, когда он «выходит за пределы своего природного образа» и переходит от своей «реальной нравственности и силы жизни к рефлектированию и пониманию». Философия ставит под сомнение «субстанциональный способ существования» этноса, его нравственность, верования, и расшатывает их, из-за чего даже может наступить «период порчи нравов»: все оказывается под вопросом. Более того, метафизическая рефлексия возникает, когда «прежняя форма религии уже больше не удовлетворяет», «нравственная жизнь разлагается» и народ, в каком-то смысле, «идет навстречу своей гибели».[22]
Естественно, что народ в лице государства или власти должен защищать свою нравственность, верования и «субстанциональный способ существования» от метафизической порчи, критики и сомнения. Поэтому судьба первых философов если не трагична, то неизбежно драматична. За оскорбление народных святынь Анаксагор изгоняется из Афин, Сократ приговаривается к смерти, Галилея принуждают отречься, Ванини и Дж. Бруно заканчивают свою жизнь на костре. На этом фоне аналогичные меры в нашем отечестве не выглядят слишком жесткими, на критический вызов «любомудров» следует лишь закономерный ответ: Максим Грек десятилетия проводит в заточении, первый «западник» Курбский – в изгнании, князь Хворостинин, подвергавший сомнению веру и обычаи предков и утверждавший, что в «Москве-де все люд глупый и не с кем жить», – бит плетьми и отправлен в монастырь, Новиков и Радищев проходят через тюрьму и ссылку. В этом контексте объявление Чаадаева сумасшедшим является хотя и циничным, но «мудрым» и, главное, милосердным актом. К нему приставлен официальный лекарь, ему прописывают холодные ванны, запрещают писать и печататься, но он может совершать прогулки и принимать кого угодно…
Дело в том, что общество требовало значительно более жесткого наказания «гордыне помраченного разума», обуявшей философа. Возмущению не было предела – эти факты хорошо известны. Некоторые москвичи требовали высылки Чаадаева из «Третьего Рима», а студенты университета явились к ректору и высказали желание защищать честь отечества с оружием в руках (а ведь на декабристов так никто не гневался, если им не сочувствовали, то по крайней мере их жалели). Даже друг Чаадаева А. И. Тургенев писал: «Я и сам не на шутку напал на Чаадаева как скоро узнал, что письмо напечатано. Но с тех пор, как вся Москва, от мала до велика, от глупца до умного, от <В. Б.> до Боратынского опрокинулась на него, и он сам пришел в какую-то робость, мне уже и жаль его стало…».[23]
События осени 1836 года подействовали на Петра Яковлевича удручающим образом – он и в самом деле оказался на грани помешательства. Это был страшный и совершенно неожиданный удар, от которого он уже никогда не смог оправиться. Тем более, что он никого не хотел оскорблять или задевать (по крайней мере, сознательно), его «Письмо» было попыткой критического самопознания, рождением философии, которая, однако, привела к столь катастрофическим последствиям. Некоторые биографы (например, Гершензон) считают, что в этой ситуации он повел себя довольно малодушно.[24] Но это вполне в духе традиции: европейские философы, по крайней мере в Новое время, от Декарта до Гегеля, никогда особым мужеством не отличались. Философия – это одно, а жизнь – совсем другое. Чаадаев не был исключением и не стремился к роли «пророка-обличителя»: философа и денди всегда влекло к спокойному, созерцательному существованию. Кабинетное уединение да светские салоны, спасавшие его от тоски и одиночества, где он мог блистать своим язвительным остроумием, – вот идеальный образ жизни, который он совсем не хотел менять. Но по иронии судьбы сама реальность, всегда стремящаяся к энтропии, попыталась стереть чрезмерно выделявшуюся индивидуальность и заменить слишком личное бытие «социальным и вполне безличным». Как бы то ни было, именно власть защитила Чаадаева от «общественного гнева» – объявив безумным, она из умника и гордеца сделала его юродивым, с которого уже совсем иной спрос.
И самое главное – философ вступил в конфликт не с самодержавием или церковью, а с определенной жизненной реальностью, с тем мироощущением, которое следовало бы назвать если не «апофатическим сознанием», то «апофатическим бессознательным»; проще говоря, он столкнулся с «русским молчанием», ибо о самосознании в то время не приходится говорить…
Самозванство и «русское молчание». Восточная апофатика и западная философия
Мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать.
П. Я. ЧаадаевАпофатика – это не просто метод отрицательного богословия (в противоположность положительному), сформулированный одним из учителей Восточной Церкви, скрывшемся за именем Дионисия Ареопагита, как это считалось в школьном богословии XVIII–XIX веков. В апофатике – сущность православного миропонимания.[25] Согласно апофатической традиции, Истина не может быть получена с помощью дискурсивного мышления, не может быть сообщена путем текстов и книг, ее невозможно познать индивидуальным сознанием и сформулировать в понятиях, как это принято в западно-католической, а затем и протестантской мысли.
«Истина не исчерпывается определением, представляющим собой не более, чем его границы, пределы, ее “предохранительную оболочку”. Реальность, не опровергнутая реальностью же, есть истина. Жизнь, не упраздненная смертью, есть истина в последнем смысле».[26]Иными словами, Истину вообще невозможно познать, можно только быть (или не быть) в ней, Истина онтологична: она может быть достигнута только в результате интенсивного духовного пути через восхождение человеческого знания к высшему апофатическому незнанию.[27] Истина невыразима, неизреченна, непостижима, непередаваема, она превосходит все возможные человеческие определения. Но «это апофатическое незнание есть, скорее, сверх-знание – не отсутствие знания, но совершенное знание, несоизмеримое поэтому со всяким частичным познанием». Для греческой патристики метафизика (и связанная с ней светская культура) абсолютно необходима: «Теоретические положения нужны и необходимы, поскольку они ОПРЕДЕЛЯЮТ истину, то есть устанавливают пределы, границы, за которыми начинаются искажения и подмены».[28] Необходимы, но недостаточны: метафизика может быть лишь пропедевтикой, введением в подлинную духовную реальность. В любом случае, роль философии и светской учености для византийских отцов огромна: восточная патристика и обскурантизм – вещи несовместные.