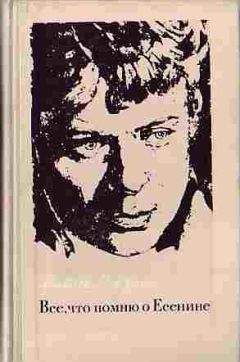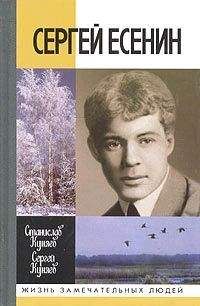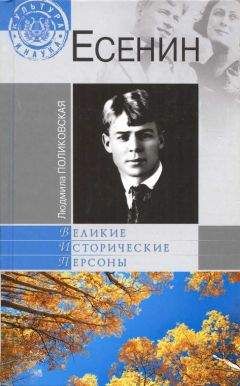Дмитрий Быков - Трезвый Есенин
Но возникает естественный вопрос: а что же, собственно, будет тогда, когда эта душа снимет все свои маски и увидит себя без грима, какой она бывает на самом деле? Вот тут, пожалуй, и выяснится, за что мы все-таки любим Есенина. А любим мы его все, даже те, кто его ненавидит. По-настоящему мы узнаем в нем ту невероятно жалостливую, сентиментальную, беспомощную, робкую ноту, которая и есть на самом деле подлинная суть этой хваленой, руганной, пропитой несчастной русской души. Это возникает стихийно, редко, странно, она практически не проговаривается об этом. Но когда проговаривается, тогда мы слышим голос собственного «я», вечно зажатого, вечно несчастного, вечно обделенного и при этом со всем готового примириться. Это слышно в «Песне о собаке», которую без слез нельзя читать, и я потому не буду… Это слышно в «Лисице» и в его удивительных детских стихах, как ни странно, гораздо более органичных, и веселых, и нежных, чем стихи Маяковского. А иногда вдруг это вспыхивает в последних его текстах – по-настоящему последних – уже перед смертью.
Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.
Снег у крыльца как песок зыбучий.
Вот при такой же луне без слов,
Шапку из кошки на лоб нахлобучив,
Тайно покинул я отчий кров.
Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый, —
Старый хозяин своей избы.
Молча я комкаю новую шапку,
Не по душе мне соболий мех.
Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку,
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.
Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей – не радей, —
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.
Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас, —
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.
Кто из нас этого про себя не повторял, кто из нас, уезжая из этого любимого, ненавистного, давно не нашего дома, не думал, что видит его в последний раз? Но только здесь есть, пожалуй, по-настоящему человеческая интонация, которая вечно забита чем-то другим, то кабатчиной, то советчиной, то гумилевщиной, то блоковщиной. Но среди всего этого вдруг собственный голос русской души, которая больше, надо сказать, нигде ни у кого с такой невероятной прямотой себя не выражала. Начинаешь поневоле думать, что, может быть, действительно для того, чтобы сказать какое-то по-настоящему русское слово, нужно сначала со страшной силой напиться, а потом со страшной силой протрезветь – то есть поставить на себе какой-то нечеловеческий эксперимент, который поставил на себе он. Может быть, и вправду, хотя это и ужасно звучит, прав был Достоевский, что Бог открывается низшим, последним, открывается тем, кто провел себя через адское горнило. И, может быть, – страшно сказать, – он может открыться только убийце и проститутке. Другое дело, что я-то не очень принимаю того Бога, который им открылся, и сам Достоевский не очень его принимает. Но, может быть, действительно, через какое-то падение открывается вдруг вот эта невероятная близость и к Богу, и к себе. Потому что, конечно, только сделав с собой то, что сделал Есенин, можно было написать и эти стихи, и другие из последних. Да?
Жить нужно легче, жить нужно проще,
Все принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.
(здесь даже на короткое время прежний звук вернулся, который так ему удавался, тоже великолепная простота даже в кабатчине).
Сочинитель бедный, это ты ли
Сочиняешь песни о луне?
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине.
Ах, луна влезает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза…
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.
Это, конечно, очень уголовная романтика, но при этом это очень чистый образец ее, без какой-либо примеси.
Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек у окна.
Все мы бездомники, много ли нужно нам.
То, что далось мне, про то и пою.
Вот и опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою.
Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться —
Чайная чашка скользит из рук.
Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись,
Слушай, под эту гармонику снежную
Я расскажу про свою тебе жизнь.
Много я видел и много я странствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянствовал,
Что лучше тебя никого не видал.
Вот это прелестно. Это здорово, это великолепно непосредственно, и, самое главное, здесь нет ни малейшего налета чужеродности. Вот здесь эта русская душа говорит своим голосом. Разумеется, кто-нибудь опять скажет, что я хочу ее слышать только кроткой и жалобной, а грозного ее вида побаиваюсь. Мне, действительно, не очень она нравится в грозном своем виде, но мне просто и ничья душа, ни французская, ни немецкая, ни даже еврейская в грозном виде не нравится.
Иное дело, что только в русской душе есть это удивительное сочетание беспомощности, тоски и легкой насмешки над собой, в котором Есенин, безусловно, первый и лучший.
Последнее, о чем мне хотелось бы сказать, касается поэмы «Черный человек», которая остается единственным его настоящим поздним шедевром. Поэма, правда, задумана была в 1923 году, но осуществлена уже незадолго до конца, в 1925-м. В ней есть глубочайшая мысль, которая почему-то ускользает, все чаще ускользает от читателей, да и вообще эту поэму сейчас мало кто читает. Если честно, Есенин сейчас существует в основном в песнях на его стихи, песнях очень плохих почти всегда, потому что этим стихам не нужна музыка, она там живет и сама. Самое известное из них «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» – одно из самых его, пожалуй, простых и малоудачных произведений. А «Черного человека» перечитывают редко, помнят из него пару слов, а между тем это вещь, которая могла бы нам в нас очень многое объяснить, если бы сейчас мы ее перечитывали. Здесь, к сожалению, случилось то самое, что всегда происходит с Есениным, – факты заслонили суть, волны погасили ветер.
Страшное, действительно кошмарное, очень убедительное содержание этой поэмы, блистательная форма с тою же длинной строкой, с тем же вольным и прихотливым течением бреда, кошмара – все это заслонило мысль. Все мы помним:
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
(дальше начинается опять забвение пьяной романтики)
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
(но мы этого всего не замечаем, потому что…)
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.
Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек
Черный, черный!
«Слушай, слушай, —
Бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.
В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.
(тут уже, конечно, автор пьянеет, рифма летит к черту, но нас это уже совершенно не занимает)
…
Счастье, – говорил он, —
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.
В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство.
Вот он повторяет этот совершенно бендеровский набор чудовищной безвкусицы. Естественно, что здесь происходит грубая, жестокая расплата с собственными кабацкими мечтами. Ведь этот бендеровский форс в людях 20-х годов очень заметен. Это такое зощенковское неизжитое наследие Серебряного века – в любой катастрофе лучше всего выживают тараканы, в любой революции лучше всего выживает пошлость. Вот эта пошлятина Серебряного века – аргентинское танго, легкость, авантюризм, это выжило, это сидит и в Есенине тоже, как во всяком человеке поверхностно усвоенной городской культуры. Но дальше, разумеется, все становится страшней и страшней, холодней и холодней, там…