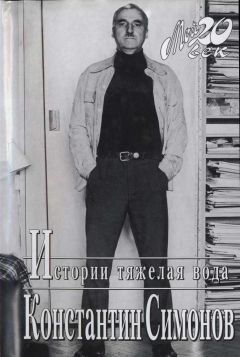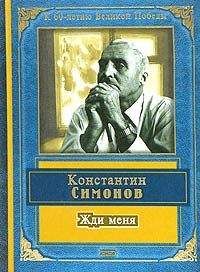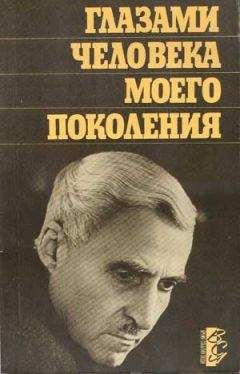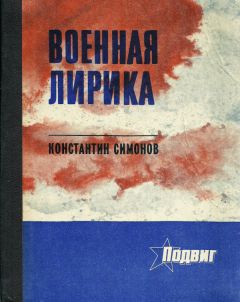Константин Симонов - Истории тяжелая вода
— Ты напрасно думаешь, что Саша любит меня. Не любит и никогда не любил. И все его шутки, что я левак и загибщик, — шутки только наполовину. Ничего не попишешь, с таким перекосом я уж засел в его памяти с тех лет! — Горбатов усмехается. — Конечно, я и сейчас в чем‑то все такой же, каким был тогда, в двадцатые годы, но я ведь, согласись, немножко и другой и, наверное, пишу немножко иначе и лучше, чем тогда. Но Саша упрям, и я для него один из тех людей, о которых он не любит менять свои прежние мнения.
В словах Горбатова горечь, тем большая, что сам он любит Фадеева и высоко ценит его книги, все — и «Разгром», и «Удэге», и «Молодую гвардию».
Осенью сорок седьмого года, когда «Молодая гвардия» имеет уже огромный и, казалось бы, неоспоримый успех, посмотрев сделанный по роману фильм Сергея Герасимова, Сталин вдруг заново мысленно возвращается к книге Фадеева и обнаруживает не только в фильме, но и в ней ряд несовершенств.
Мы с Горбатовым оба читаем внезапно появившуюся в «Культуре и жизни» статью на эту тему и съезжаемся в Союзе писателей. Фадеева в этот день нет в Москве, он в отъезде, кажется в Риге. Мы пробуем дозвониться до Фадеева и думаем о тяжести удара, который ему предстоит испытать.
Для меня в тот же день в том же номере «Культуры и жизни» своя неожиданность — статья «Жизни вопреки», не оставляющая камня на камне от моей повести «Дым отечества». И размышления о сложности собственного положения несколько отвлекают меня от мыслей о беде, происшедшей с Фадеевым.
Зато Горбатов хотя по — дружески и сочувствует мне, но думает прежде всего о Фадееве. «Бедный Саша, как он будет теперь, как ему будет трудно!» — несколько раз повторяет Горбатов. Он настолько угнетен происшедшим, что меня это сначала даже поражает.
И только потом я до конца понимаю, в чем дело. В статье, критикующей «Молодую гвардию», вспоминают и хвалят «Непокоренных» Горбатова, сличают одно с другим в положительном для Горбатова и отрицательном для Фадеева смысле.
— Ты знаешь, как я писал «Непокоренных» и что они для меня такое! — наконец не выдерживает и сам заговаривает об этом Горбатов. — Но как только я подумаю, что кому‑то приходит в голову столкнуть одно с другим, мне делается стыдно перед Сашей! Мои «Непокоренные» со всем хорошим, что в них нашли, и его «Молодая гвардия» со всем плохим, что о ней написали, все равно для меня‑то самого это несравнимо! Я‑то это понимаю, но как сделать, чтобы это понял он? Как ему это сказать? Он же не даст мне это сказать!
И Фадеев действительно не дает ему этого сказать. Ни ему, ни другим.
Вернувшись в Москву, Фадеев сразу же с присущей ему в такие моменты холодной взвинченностью напрочь отсекает всякие попытки сочувствовать ему. И в этом цельность фадеевского характера. Но и в том, с каким самоотречением и с какой силой сочувствия к Фадееву накануне его приезда говорит мне о себе и о нем Горбатов, тоже цельность характера или, пожалуй точнее, цельность души.
Москва. У Горбатова отпуск для работы над романом. Неделю назад мы сговорились с ним, что сегодня вместе пообедаем, а до этого не будем ни встречаться, ни перезваниваться по телефону. Он собирается уехать работать в Донбасс, но до этого решил засесть и написать еще здесь, в Москве, очередную главу романа «Жили два товарища», которая, по его словам, уже придумана им от первой и до последней строчки. Мы и обедать‑то сговорились по случаю окончания этой главы.
Приезжаю. Горбатов открывает мне дверь только после нескольких звонков и, буркнув «Здравствуй!», шлепает обратно босыми ногами к себе в кабинет.
Когда я вхожу, он уже снова лежит на диване в своей привычной позе — кулак под голову, — и валяется так, кажется, с утра. Под подушку запихнута какая‑то толстая книга: ни на стуле у дивана, ни на столе ни единого листка с записями, ни малейших следов работы.
— Садись, — говорит он, не вынимая кулака из‑под головы и мрачно глядя на меня. — Куда мы поедем обедать и что будем есть?
— Что будем, то и будем, — говорю я.
— Ах да, я же забыл, что ты великий организатор. — По — прежнему не улыбаясь, он мрачно смотрит на меня.
Я спрашиваю: кончил ли он главу?
— Нет. Если точней, и не начинал.
— Почему?
— Потому что я не писатель.
— Ты все перепутал, — говорю я, стараясь перевести разговор в шутку. — Не писатель — это я. А ты как раз писатель.
— Я тоже не писатель, — говорит Горбатов.
— Когда ты это выяснил?
— В прошлый понедельник. Начал читать «Сагу о Форсайтах», никогда раньше по своей темноте не читал, начал сразу со второго тома, чтобы быстрее кончить, и, пока читал второй том, иногда еще казалось, что я все‑таки писатель. Но как только взялся за первый, окончательно понял — нет! Писать не умею. Он умеет, а я не умею.
— Дочитал?
— Дочитал.
— А когда все‑таки начнешь писать главу?
— Через неделю. Перед тем как начать, надо заново приучить себя к мысли, что придется учиться писать.
Он наконец садится на диване, надевает носки и, кряхтя, зашнуровывает туфли. Подходит к гардеробу и, надев поверх майки, в которой валялся, новенькую, довольно‑таки щегольскую рубашку, начинает выбирать галстук. Глаза у него становятся веселыми.
— Насколько серьезно услышанное мною? — спрашиваю я.
— Настолько серьезно, что за неделю не написал ни строчки. Не мог. Но сейчас так хочется есть и так живо представляю себе все, что буду есть, и могу так точно заранее описать все еще не съеденное, что подозреваю, я все‑таки писатель. Хотя бы натуралист!
Он надевает пальто, шляпу, берет в руку свою, привезенную им из Японии, толстую бамбуковую палку и, весело поблескивая очками, смеясь чему‑то, чего я еще не знаю, вдруг спрашивает меня:
— Ну, как ты думаешь, каким я представлял себе классического буржуа на заре своей юности? Толстый, лысый, в очках, в шляпе, с палкой и ездит в машине! Я!
Донбасс. Горбатов — один из тех, о ком мещане говорят: «Он не умеет устраиваться». Он и в самом деле человек не очень уютной жизни, и происходит это не от многолетней привычки к перемене мест, а от природного насмешливого нежелания думать на несущественные для него бытовые темы.
В 1950 году летом я приезжаю к нему в Донбасс, где он ежегодно по нескольку месяцев живет на окраине Донецка в маленьком сборном домике. И вдруг понимаю до конца то, о чем раньше лишь догадывался: настоящий дом Горбатова — здесь, в Донбассе. Он и сам здесь выглядит как‑то по — другому и, кажется, куда больше чувствует себя хозяином, чем в своей московской квартире.
Работая здесь над романом о своих земляках, Горбатов, немножко хитря, проверяя на слушателях будущие подробности еще не написанных глав, любит рассказывать, в особенности приезжим, вроде меня, людям о разных донбасских событиях и случаях, о разных шахтерских профессиях, и существующих, и уходящих, и уже ушедших из шахтерского быта; о коногонах и лампоносах, о стволовых и откачниках, о крепильщиках и запальщиках, о шахтных пожарах, о горноспасательной службе и тысяче других вещей. Шахтерский труд остается в его рассказах тяжелым и опасным, но всегда поэтичным. И любая шахтерская профессия несет у него свою собственную поэзию — иногда на глазах рождающуюся, как поэзия машиниста угольного комбайна, иногда на глазах умирающую, как поэзия коногона.
Идя рядом с тобой своей быстрой, немножко семенящей походкой по самой обыкновенной, ничем не примечательной бурой донецкой земле с выгоревшей, пожелтелой травой, Горбатов может вдруг резко остановиться, показать пальцем на эту землю и за какие‑нибудь пять минут дать почувствовать всю мощь и всю поэзию происходящего сейчас там, внизу, под землей, под тем самым местом, где он остановил тебя. Так, словно он видит сквозь землю, он может долго рассказывать со всеми подробностями, как разветвляются штреки, где пролегают лавы; может, показав на дом вдалеке, вскользь заметить, что под ним недавно начали новую проходку, а примерно под той вон трамвайной будкой тянутся уже выработанные до конца и заброшенные горизонты. Он умеет дать почувствовать, что там, внизу, под этой молчаливой, даже не вздрагивающей землей, всюду идет работа, всюду люди, всюду тот подземный, главный и самый поэтичный для него Донбасс.
Этим летом Горбатов не только сидит здесь над романом. Здесь еще и снимается по его сценарию фильм «Донецкие шахтеры», и в домике, где живет Горбатов, обычно после съемок собирается добрая половина съемочной группы. Сегодня до вечера еще далеко, но съемка почему‑то не состоялась, и несколько человек из киногруппы уже давно пришли и нетерпеливо ждут Горбатова, который с утра уехал в обком: в громоздкой махине киноэкспедиции в очередной раз что‑то заело, понадобилась срочная помощь, и он в очередной раз отправился за этой помощью.
Все сидят, ждут и пьют пиво.
Горбатов входит, вытирает пот — день жаркий, — наливает себе стакан холодного пива, с наслаждением делает большой глоток, и в этот момент кто‑то из присутствующих невпопад, даже не подождав, пока человек утолит первую жажду, торопливо спрашивает: