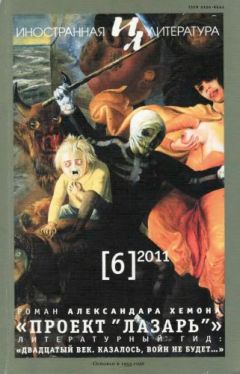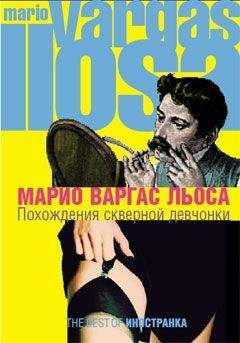Марио Варгас Льоса - Сон кельта. Документальный роман
При этом он с самой ранней юности обладал обостренным эстетическим чувством, умел ценить красоту лица и фигуры, с наслаждением любовался стройностью, живым лукавством глаз, тонкой талией, движением мускулов, говорящим о той сопряженной с неосознанным изяществом силе, какая свойственна хищному зверю на воле. Когда же он осознал, что в восторг, смешанный с особым, смутным и тревожащим ощущением запретности, приводит его красота не женская, но мужская? Когда попал в Африку. До тех пор его пуританское воспитание, непреклонно суровые традиции и обычаи родни с отцовской и материнской сторон, нравы его среды, в которой даже тень подозрения в склонности к человеку одного с тобой пола воспринималась как тяжкий и предосудительный порок, вполне справедливо трактуемый законом и религией как преступление, не заслуживающее ни оправдания, ни снисхождения, — в зародыше подавляли малейший намек на влечение такого рода. В „Мэгеринтемпле“, в доме его двоюродного деда Джона, и потом в Ливерпуле, где Роджер жил у своих дядюшки, тетки и кузенов, увлечение фотографией оказалось прекрасным предлогом для того, чтобы получить возможность наслаждаться — всего лишь мысленно — стройными и крепкими мужскими телами, к которым его влекло неодолимо, хотя он, обманывая самого себя, оправдывался тем, что наслаждение это — всего лишь эстетическое.
В Африке же, в краю безмерной жестокости и дивной красоты, где люди причиняли себе подобным ни с чем не сравнимые муки, страсти проявлялись открыто, фантазии и мечты сбывались, инстинкты разнуздывались, и все это происходило безудержно, беззастенчиво, без оглядки на предрассудки и приличия, которые в Великобритании губили наслаждение. Роджеру вспомнился сейчас тот удушливо знойный день в Боме, которая тогда была еще крохотным поселением, не заслуживавшим даже слова „деревня“. Задыхаясь, чувствуя, как горит все тело, он пошел выкупаться в речке, что на своем пути к водам Конго образует маленькие лагуны, где по каменистым берегам растут высоченные манговые деревья, кокосовые пальмы, баобабы и гигантские папоротники. В воде уже плескались двое юношей — совершенно голых, как и сам Роджер. Они не понимали по-английски, но в ответ на его приветствие улыбнулись. Сперва он подумал, что они просто резвятся, но, приглядевшись, понял — они ловят рыбу голыми руками. Рыбки выскальзывали из пальцев, парни хохотали, все больше возбуждаясь. Один был очень красив. Иссиня-черное, удлиненное, статное тело, глубокие, сверкающие глаза. Он и сам двигался с гибким проворством рыбы в воде, и при каждом движении под блистающей капельками воды кожей играли мускулы рук, спины, ягодиц. На темном лице, расчерченном геометрическими узорами татуировки, искрились глаза, блестели очень белые зубы. Когда с шумным ликованием парням удалось наконец ухватить рыбину, один вышел на берег, стал чистить и разделывать улов и готовить костерок. Тот, кто оставался в воде, посмотрел Роджеру в глаза и улыбнулся. Роджер, улыбаясь в ответ, подплыл к нему. Но, оказавшись рядом, не знал, что делать дальше. Ему было и стыдно, и неловко, но одновременно с этим он испытывал безграничное счастье.
— Как жаль, что ты меня не понимаешь, — сказал он вполголоса. — Я бы хотел поснимать тебя. Поговорить с тобой. Подружиться.
И заметил, что юноша, шевеля под водой руками и ногами, сокращает расстояние между ними. И вот оказался так близко, что тела их почти соприкоснулись. Роджер почувствовал, как чужие руки скользнули по его животу, ласкающе дотронулись до уже возбужденного члена. И сейчас, во тьме своей камеры вздохнул от вожделения и тоски. Закрыв глаза, попытался воскресить в памяти ту давнюю сцену, вновь ощутить удивление, сменившееся неописуемым возбуждением, которое тем не менее не унимало ни страха, ни робости, когда к его телу приникло тело этого юноши, и напряженный член стал тереться о его ноги и живот.
Так он впервые в жизни занялся любовью, если можно назвать любовью то, как он возбудился и изверг семя в воду от прикосновений африканца, с которым, вероятно, произошло то же самое, хотя Роджер этого не заметил. Когда он вышел на берег и оделся, юноши угостили его несколькими кусками рыбы, поджаренной на костерке.
Как стыдно было ему потом! Весь остаток дня прошел как в тумане, и угрызения совести, причудливо смешанные с частицами блаженства, мучили Роджера оттого, что он вышел за пределы своей тюрьмы и обрел свободу, которой втайне так долго ожидал, хоть никогда и не осмеливался искать. А в самом ли деле он стыдился? И раскаивался? Да, да! И стыдился, и раскаивался. И обещал себе, клянясь собственной честью, и памятью матери, и верой, что подобное не повторится, — и знал при этом, что лжет, что теперь, когда он отведал запретного плода и все естество его объято страстью и пылает факелом, он уже не сумеет избежать повторения. Случай тот был если не единственным, то одним из очень редких, когда за наслаждение Роджеру не пришлось платить. А может быть, как раз деньги, которые он давал своим мимолетным — на несколько минут или часов — любовникам, избавляли его от бремени нечистой совести, которое поначалу давило так тяжко? Может быть. Как если бы, переведенные в разряд коммерческой сделки — ты предоставишь мне свой рот, свой член, а я дам тебе язык, зад и еще несколько фунтов, — эти беглые встречи в парках, в темных углах, общественных банях, дешевых и гнусных отельчиках или прямо посреди улицы — „как собаки“, подумал Роджер сейчас — с теми, кто не знал английского и с кем он поэтому должен был объясняться жестами или мимикой, освобождались от всякого морального значения и превращались в обычнейший обмен товара на деньги, столь же обыденный, как покупка мороженого или пачки сигарет. Это было удовольствие, а не любовь. Он научился наслаждаться, но не любить и не отвечать на любовь. Случалось порой, что в Африке, в Бразилии, в Икитосе, в Лондоне, в Белфасте или в Дублине после особенно страстного свидания к остроте пережитых ощущений примешивалось еще какое-то чувство, и тогда он говорил себе: „Я влюблен“. Ложное это было чувство и скоро проходило. И даже нежная привязанность, которую он вскоре начал испытывать к Эйвинду Адлеру Кристенсену, была привязанностью не любовника, а скорее старшего брата или отца. Роджер был несчастен. И в этой сфере бытия он потерпел полнейшее поражение. Много случайных любовников, десятки, если не сотни — и ни одной любви. Чистый секс, торопливое, животное совокупление.
И потому, раздумывая над этой стороной своей жизни, состоявшей из случайных, всякий раз мимолетных, никогда не имевших продолжения связей, Роджер говорил себе, что она так же безрадостна, как та река со всеми ее водопадами и лагунами, на берегу которой стоял затерянный в низовьях Конго поселок под названием Бома.
Им овладела глубокая и теперь уже привычная печаль, что неизменно следовала за его беглыми — они, как и самая первая, происходили почти всегда под открытым небом — встречами с мужчинами и юношами, чьи имена он не спрашивал или забывал, едва узнав. Это были быстротечные мгновения удовольствия, не имевшие ничего общего и не шедшие ни в какое сравнение с теми отношениями — длительными, прочными, продолжавшимися по многу месяцев и лет и неизменно вызывавшими у него зависть, — в которых к страсти добавлялись понимание, общность взглядов и вкусов, дружеское единодушие, как, например, у Герберта и Сариты Уорд. Еще одна огромная, ничем не заполняемая пустота в его жизни, еще один предмет его постоянной тоски.
Он заметил — оттуда, где находился, должно быть, дверной косяк, пробивается полоска света.
Глава XII
„Я сломаю себе шею в этом проклятом путешествии“, — подумал Роджер, когда министр иностранных дел сэр Эдвард Грей сказал ему: поскольку сведения из Перу поступают весьма противоречивые, у британского правительства нет иного способа узнать подоплеку происходящего, как вновь направить самого Кейсмента в Икитос, дабы он своими глазами убедился, в самом ли деле перуанское правительство пресекло злодейства в Путумайо или всего лишь тянет время, не желая или будучи не в силах выступить против Хулио Сесара Араны.
Здоровье Роджера меж тем ухудшалось. После возвращения из Икитоса и в те несколько дней, что он провел в Париже с четой Уордов, его опять стал мучить конъюнктивит, часто лихорадило, не давал покоя геморрой. Едва приехав в Лондон в начале января 1911 года, он отправился по врачам. Два специалиста независимо друг от друга определили, что все это — результат неимоверной усталости и нервного перенапряжения, а те, в свою очередь, — последствия амазонской эпопеи. Он нуждается в отпуске, в спокойном и безмятежном отдыхе.
Отпуск, однако, выхлопотать не удалось. Роджер тратил все время на составление отчета, который правительство требовало представить как можно скорей, на бесчисленные совещания в Министерстве иностранных дел, где приходилось докладывать обо всем, что он видел и слышал в Амазонии, на работу в Обществе против работорговли. Кроме того, он должен был встречаться с британскими и перуанскими руководителями „Перувиан Амазон компани“, которые на первой беседе — Роджер два часа рассказывал о своих впечатлениях о Путумайо — сидели не шевелясь, будто окаменели. Застывшие лица, полуоткрытые рты, недоверчивые и испуганные взгляды людей, увидевших, как у них под ногами разверзается земля, а на голову рушится свод потолка. Они не знали, что сказать. И простились с Кейсментом, так и не задав ему ни одного вопроса.