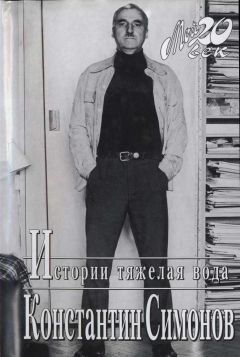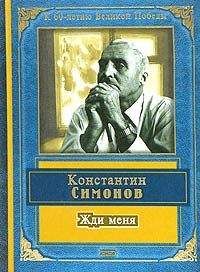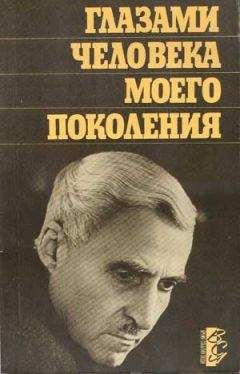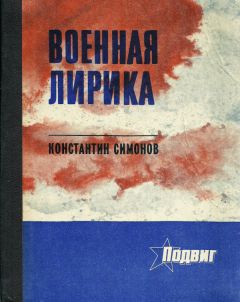Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Через его стихи четырьмя бурными десятилетиями прошел двадцатый век. Прошел то боком, то напролом. Прошел, пробуя человека, как металл, — и на изгиб, и на разрыв, и на сжатие. Век прошел через человека, а человек прошел через век. И остался сильным и веселым, добрым, человечным, открытым добру и нетерпимым к мерзости.
В этой поэзии все переплетено и перепутано, как в жизни. И, останавливаясь перед каждым из стихотворений и раздумывая над ним, трудно ответить самому себе, о чем оно. О любви? Да. О революции? Да. О том, что человек стареет и это невесело? Да. О том, что хорошо, когда горит огонь и можно смотреть в него? Да, и об этом. Здесь все переплетено и перепутано в том великолепном беспорядке, который называется душевной жизнью человека, смело и откровенно брошенной на бумагу, напечатанной, предъявленной на всеобщее обозрение.
Мы иногда употребляем выражение «поток сознания» в уничижительном смысле; особенно в тех случаях, когда имеем дело с имитацией этого понятия, когда и сознание чуть теплится, и поток превращается в мнимодвижушуюся, а в сущности, стоячую воду. Но когда сознание человека вбирает в себя все самое живое, противоборствующее, трагическое и героическое, чем так опасно богат наш трудный и великолепный век, и когда поток этого сознания — действительно поток, в кровь режущийся грудью о самые острые камни века, — тогда этот поток сознания воспринимается как нечто естественное, как и исповедь и проповедь, существующие друг в друге, неразъятые и неразнимаемые.
Именно такой я ощущаю поэзию Хикмета. В ней есть все, чем живет и дышит человек. Она состоит из капель, но она — поток. И этот поток, при всех его водоворотах и подводных камнях, знает, куда он несется. Стихотворная исповедь и проповедь Хикмета — это исповедь и проповедь человека сложного, мятущегося, ошибающегося, любящего, ненавидящего, но при этом знающего, куда и зачем он идет.
А глаза у человека, написавшего все эти стихи, были голубые, а волосы — рыжие, а походка — легкая. И за день до смерти он яростно спорил о том, какой будет жизнь через двадцать лет. И умер, протягивая руку к утренним газетам.
1964
Об Иване Алексеевиче Бунине
Эти записи я, к сожалению, сделал лишь много лет спустя после встреч с Иваном Алексеевичем Буниным. Мне кажется, что я не забыл ничего существенного, не забыл и характера этих разговоров с Буниным, то есть запомнил не только что он говорил, но и как он говорил. Однако, воспроизводя в некоторых местах своих записей прямую речь Бунина, я не хочу и не могу настаивать на строгой документальности этого воспроизведения, на сохранении всех особенностей подлинной стилистики бунинской разговорной речи. Я лишь стремлюсь добросовестно воспроизвести слова Бунина такими, какими они спустя много лет сохранились в моей памяти. А память, даже хорошая, — инструмент недостаточно совершенный.
Я виделся с Буниным пять или шесть раз в Париже летом сорок шестого года. Как раз в это время происходило принятие советского гражданства многими бывшими эмигрантами, в особенности теми, кто так или иначе участвовал в движении Сопротивления или занимал во время войны явно выраженные антинемецкие позиции.
Я выступал вместе с нашим тогдашним послом во Франции А. Е. Богомоловым на вечере в большом парижском зале, уже не помню, как он назывался. В зале собралось тысячи полторы человек из русской колонии в Париже. Часть собравшихся уже приняла советское гражданство, многие думали об этом.
После доклада А. Е. Богомолова, говорившего о нашей победе и о возможностях для возвращения на родину, открывшихся перед присутствующими, я прочел «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» и некоторые другие военные стихи 1941–1942 годов. Два или три из прочитанных мною стихотворений взволновали зал, и меня долго не отпускали. А когда все кончилось, кто‑то из руководителей Союза советских патриотов подвел меня к сидевшим в первых рядах Бунину и Тэффи и познакомил меня с ними.
Тэффи была еще очень моложавая женщина, ей никак нельзя было дать ее семидесяти лет. Со мною разговаривал человек очень живого, я бы сказал, даже озорного нрава, с какими‑то удивительно современными повадками. У меня и тогда, и позже — я потом еще несколько раз встречался с Тэффи — складывалось из этих встреч, может быть и ошибочное, впечатление, что если бы Тэффи тогда вернулась домой, то она почувствовала бы себя как рыба в воде в московской не столько писательской, сколько актерской среде.
Бунин и при первой, и при последующих встречах с ним вызвал у меня совсем иные ощущения. Он казался мне человеком другой эпохи и другого времени, человеком, которому, чтобы вернуться домой, надо необычайно многое преодолеть в себе, — словом, человеком, которому будет у нас очень трудно. В моем ощущении он был человеком глубоко и последовательно антидемократичным по всем своим повадкам. Это не значило, что он в принципе не мог в чем‑то сочувствовать нам, своим советским соотечественникам, или не мог любить всех нас, в общем и целом, как русский народ. Но я был уверен, что при встрече с родиной конкретные современные представители этого русского народа оказались бы для него чем‑то непривычным и раздражающим. Это был человек, не только внутренне не принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революцией, но и в душе все еще никак не соглашавшийся с самой возможностью таких перемен, все еще не привыкший к ним как к историческому факту. Он как бы закостенел в своем прежнем ощущении людей, жизни, быта, в представлениях о том, как эти люди должны относиться к нему и как он должен относиться к ним, какими они могут быть и какими быть не имеют права…
Внешне Бунин был еще крепкий, худощавый, совершенно седой, чуть — чуть чопорно одетый старик. Гордая посадка головы, седина, суховатость, подтянутость, жесткость и острота движений, с некоторой даже подчеркнутостью всего этого.
Он был как‑то сдержанно — приветлив. И очень сдержан, и очень приветлив в одно и то же время.
Он поблагодарил меня за чтение стихов, сказал какие‑то хорошие слова, спросил, долго ли еще пробуду в Париже, и заметил, что хорошо бы еще раз повидаться. Я, в свою очередь, сказал, что был бы очень рад вновь увидеть его. На этом мы распрощались.
Что я чувствовал, когда впервые подходил к Бунину? Я со школы знал «Господина из Сан — Франциско» и до войны читал все вещи Бунина, которые были у нас изданы. В 1944 году, когда мы вошли в Белград, я познакомился там с бывшим министром просвещения врангелевского правительства Малининым, служившим хранителем библиотеки эмигрантского Русского дома в Белграде. Этот старик, категорически не пожелавший уходить с немцами, много рассказывал мне о резком расколе эмиграции на тех, кто пошел служить немцам, и на тех, кто считал это несовместимым со своей честью. Мы ходили с ним по библиотеке, и он, узнав, что я люблю Бунина, дал мне дубликаты почти всех вышедших за границей бунинских книг. Так в конце войны я прочел и «Жизнь Арсеньева», и «Лику», и множество неизвестных мне раньше рассказов Бунина. Прочел и его «Окаянные дни». При чтении этой книги записок о Гражданской войне было тяжелое чувство: словно под тобой расступается земля и ты рушишься из большой литературы в трясину мелочной озлобленности, зависти, брезгливости и упрямого до слепоты непонимания самых простых вещей.
Когда я приехал в Париж, я понаслышке уже знал про абсолютно безукоризненное поведение Бунина в годы немецкой оккупации, слышал, что он категорически отказался хотя бы палец о палец ударить для немцев. Для меня, только что пережившего войну, это было главным оселком в моем отношении к людям.
Я относился к Бунину как к очень хорошему писателю и как к человеку, занявшему во время войны достойную патриотическую позицию. Я уважал его за это, и это уважение зачеркивало для меня некоторые неприемлемые страницы в его прошлом. Словом, мне хотелось, чтобы Бунин вернулся домой.
Но когда я говорю «вернулся», надо сказать всю правду — при встречах с Буниным, чем дальше, тем больше, у меня росло ощущение, что возвращение будет тягостно для него. Хорошо, если он возьмет советское гражданство, хорошо, если он закрепится на тех максимально близких к нам позициях, на которых он был в то лето, но настаивать на том, чтобы он непременно ехал домой, может быть, не следует: он слишком многого у нас не поймет, не примет, не ощутит себя как дома.
Перед моими последующими встречами с Буниным наш посол говорил мне, что было бы хорошо как‑то душевно подтолкнуть Бунина к мысли о возможности возвращения, говорил о том, что Бунин живет не в безвоздушном пространстве и есть силы, которые действуют на него в обратном направлении.
Я с охотой взял на себя это неофициальное поручение попробовать повлиять на Бунина. Не собираясь с места в карьер приниматься за уговоры — брать паспорт и ехать, — я видел свою задачу в том, чтобы рассказать Бунину все, что ему будет интересно: о войне и о людях во время войны, дать ему представление о том, что мы пережили за последние годы, и всем этим душевно приблизить его к нам.