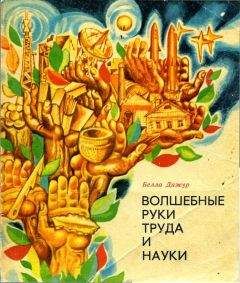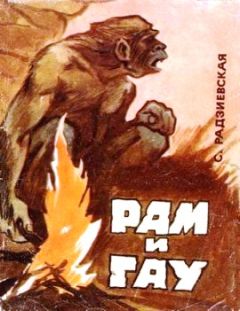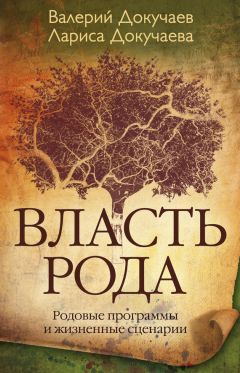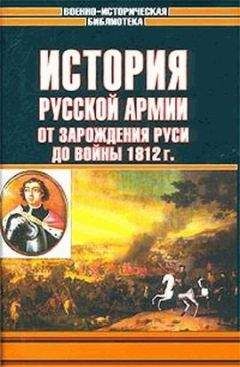Семен Либерман - Дела и люди(На совесткой стройке)
* * * Чем труднее делалось положение Красина, тем больше времени приходилось ему проводить в России. В один из моих приездов в Москву, я, к моему великому огорчению, узнал, что Красин серьезно болен белокровием; передавали, что, по постановлению Политбюро, он был помещен для исследования в знаменитую совнаркомовскую больницу. В ней, по предписанию Политбюро, оперировали Фрунзе; впоследствии, в 1937 г., на московских процессах заявляли, будто там, по приказу Ягоды, -, был отравлен Максим Горький. Когда я позвонил Красину, он очень обрадовался и попросил меня навестить его. Я немедленно поехал в больницу. Меня ввели в маленькую комнату, и я увидел перед собой обреченного человека. Красин сильно похудел, лицо его заострилось. Он попытался шутить, но в шутке его было много горечи и видно было, что не по своей воле он находится в этой больнице; он предпочел бы европейских врачей и близость к своей семье, оставшейся , за границей. Впервые я увидел, как его постоянная жизнерадостная улыбка уступила место озлобленному сарказму, желчной насмешке - над другими, над самим собой, над московской властью и над тем буржуазным миром, который окружал его за границей и в котором он себя чувствовал, как рыба в воде. Через несколько недель он выписался из больницы и выехал в Париж, где он, однако, почти не занимался делами. В это время, в 1925 г., Париж становился все более и более важным центром советской дипломатии. В октябре 1925 г. на парижский пост был переведен из Лондона Раковский, а Красин был отправлен обратно в Лондон. В ноябре 1926 г. я получил в Париж телеграмму от жены Красина с просьбой немедленно приехать в Лондон. Я тотчас же исполнил эту просьбу. Когда я вошел к Красину, он уже фактически был при смерти, но все же узнал меня. Я не могу забыть его слов, которые, быть может, были бредом умирающего, а, быть может, имели для него очень глубокий смысл: - Весь мир - маленькие коробочки, а люди - спички. Каждый живет своими маленькими мыслями в своем маленьком мирке. Как я жалею всех их! Все борются, грызутся, а на самом деле это только игра для самозабвенья. Пора уходить! На лице его лежала уже печать смерти, и все еще блуждала какая-то улыбка. Он умер 24-го ноября 1926 года. С Красиным ушел очень крупный и интересный человек. У меня часто спрашивали мое мнение о Красине. Я всегда отвечал, что с обычной, обывательской точки зрения Красина можно было назвать личностью «аморальной», ибо он не признавал общепринятого отчетливого разграничения между понятиями добра и зла. Ему чужды были догматизм, нетерпимость и ограниченность многих его товарищей по партии, и если он и оправдывал жестокость советского режима, то лишь потому, что считал ее неизбежной в борьбе с косностью и отсталостью России. Он часто говорил, что, начиная с Ивана Грозного, каждый шаг России по пути прогресса сопровождался гибелью и жертвоприношением тысяч и миллионов людей. Это тяжело, мучительно, но исторически необходимо. Несмотря на свой скептицизм и даже цинизм опытного делового человека, Красин был несомненным патриотом. Он искренно любил Россию, всегда был готов служить ей и содействовать ее подъему и процветанию. Интересы родины стояли у него всегда на первом плане, и этими высшими соображениями он неизменно руководствовался в своей деятельности - что уживалось в его душе наряду с отрицательным отношением ко всякого рода звонким фразам и ходячим лозунгам. Лично для меня, и в моей работе, и отчасти даже в моей личной жизни, Красин сыграл большую роль. Меня с ним многое связывало, и долгое время, в особенности после смерти Ленина, он был одним из немногих советских деятелей, в которых я находил для себя опору. Со своей стороны и он - в чем я мог не раз убедиться - высоко ценил мою работу и неоднократно доказывал это на деле. Он знал о тех препятствиях, которые чинились мне со стороны некоторых московских органов, и возмущался подобным отношением. Под самый конец моей московской службы, когда я был за границей и жена моя хотела также поехать за границу, чтобы повидать нашего единственного ребенка, ГПУ отказало ей в паспорте. Красин пришел ей на помощь, лично ездил по ее делу в ГПУ и, когда, наконец, она получила паспорт, послал мне с ней следующее письмо: «Я надеюсь, что вас не огорчат и не разочаруют трудности, которые встретила ваша жена. Вы делаете большое дело. Если некоторые этого и недооценивают, то вы ведь работаете не для отдельных людей, а для большой России. Поэтому продолжайте спокойно свою работу». Сейчас, во время войны, думая о Красине, я не могу не вспомнить его отношения к Красной Армии. Будучи в 1918 г. председателем Чрезвычайной Комиссии по Снабжению Красной Армии, Красин с увлечением выполнял эту работу. Он часто говорил об исторической миссии возрождающейся Красной Армии и повсюду подчеркивал, что нужды армии должны быть на первом плане. Он неоднократно говорил в кругу близких:«Они за Коминтерн, а я за Красную Армию». Красин ушел от жизни слишком рано, и ему не суждено было увидеть эту армию, столь блестяще выполняющую свою великую миссию уничтожения фашизма на благо не только своей родины и своего народа, но и всего цивилизованного человечества!
Глава пятнадцатая МОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ НАЧАЛЬСТВО
Помимо Красина, моими непосредственными начальниками были ставленники коммунистической партии, которым было поручено наблюдение за тем, чтобы наше учреждение - Северолес - в своей деятельности придерживалось предначертанной партийной линии. Это были Григорий Ломов и Карл Данишевский. Ни один, ни другой не являлись крупными личностями, но они не были и простыми «массовиками». То были офицеры политической армии. Эта группа подчас бывает более показательна для понимания большого массового движения, чем его признанные вожди. Ломов, сын крупного чиновника царского правительства, принадлежал к тому молодому поколению большевиков, в котором самой выдающейся фигурой был Николай Иванович Бухарин и которое, казалось, должно было прийти на смену старой группе ленинских сверстников. Еще будучи гимназистом, Ломов встретился с Рыковым, и в 16-летнем возрасте сделался большевиком. Когда я с ним познакомился, он очень напоминал в ту пору своей юности интеллигентов-нигилистов, описанных Тургеневым. Он был предан своим идеалам и со страстью и пылом защищал принципы и теории, которые признавал правильными. Был он высокого роста, с тонкими чертами лица, высоким лбом, непослушными волосами, с угловатыми движениями, объясняемыми природной застенчивостью. Он носил маленькую бородку, желая выглядеть старше своих лет. Он оказался ко времени революции самым молодым членом коммунистического ЦК. Ломов любил хорошую книгу, театр и особенно балет. Он был горячим поклонником Бухарина, которого считал самым драгоценным бриллиантом в большевистской короне и ласкательно звал его «Бухарчик». Вместе с Бухариным голосовал он против предложения Ленина о заключении Брест-Литовского мира, считая этот мир позорным. В теории Ломов ненавидел «капиталистический режим», но в то же время питал глубокое почтение к его деятелям, в особенности к тем из них, которые вышли из либеральных профессий. Он неоднократно присылал ко мне бывших русских промышленников с записочками, что, мол, податель сего, известный хозяйственный деятель при царском режиме, хотя и буржуй, но человек честный, и надо дать ему возможность существовать. Все такие записочки кончались извинением и объяснением, почему он считает нужным это делать. Он часто подчеркивал свое отрицательное отношение к тем большевикам-выскочкам из рабочих, которые любили щеголять своей партийностью и проявляли «комчванство» на административных постах. Жил он в Кремле, но очень скромно, в двух маленьких комнатках, и мне случалось не раз заботиться о том, чтобы его детишки имели полфунта масла или сахару. Одет он был всегда очень бедно. Но однажды, когда он вернулся зимой с Урала, я его встретил в громадной шубе, к тому же не по мерке. - Григорий Ипполитович, - спросил я, - откуда эта шуба? Он смущенно ответил:
- Было очень холодно. Чека принесла мне эту шубу. Может быть, она снята с буржуя, которого они там прихлопнули. Впрочем, с Чека он всегда был в дурных отношениях, хотя в СТО высказывался о Дзержинском с большим почтением. С другой стороны, Чека его всерьез не брала. Не совсем серьезно относились к нему и коммунистические лидеры, хоть его и очень любили. На заседаниях его аргументы выслушивались подчас с улыбкой на лице. Но когда надо было поставить во главе какого-нибудь ведомства стопроцентного коммуниста или когда нужно было установить контакт с буржуазным миром, выбирали Ломова. Поэтому его и назначили председателем Главного Лесного Комитета, а впоследствии и Главного Нефтяного Комитета. Приходилось ему вести переговоры и с представителями иностранной промышленности: с главой «Стандарт Ойл»,с Детердингом и другими. Ломов говорил с ними очень мягко, и они оставались весьма довольны его обращением с ними. Он же, выходя из комнаты, часто отплевывался. Человек он был прямой, со старыми представлениями о товарищеских отношениях и о революционной морали. Я отчетливо помню, как однажды Ломов обрушился по телефону на Михаила Ивановича Калинина по личному делу одного из своих друзей. Жена весьма видного советского сановника проявила слишком много внимания к одному из восходящих тогда светил коммунизма, Я. Р. Вдруг последовало распоряжение самого Калинина либо запретить даме встречаться с Р., либо запретить Р. вход в Кремль. Услышав об этом, Ломов весь задрожал, вызвал Калинина по телефону и вне себя от ярости стал кричать: - Хоть ты и староста, но суешься куда не надо! С каких пор мы, большевики, вмешиваемся в личные дела? Все это отрыжки старого мира! Не тебе, Михаил Иванович, заниматься этим, особенно по отношению к таким заслуженным товарищам! Четверть часа после этого с Ломовым нельзя было говорить, так он был взволнован…