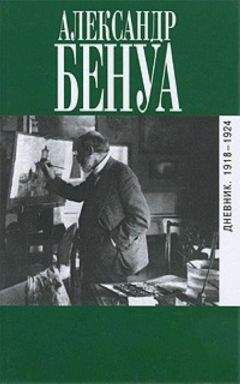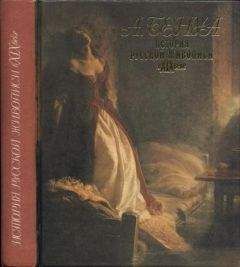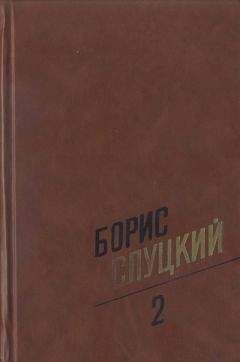Борис Носик - С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом
Леша сказал мне, что это все довольно дорогие тарелки, и нахмурился, потому что не любил говорить о своей семейной нужде. Мы наверно, оба подумали об одном и том же, о деньгах. Только я подумал, что дюжина этих агит-тарелок могла бы сильно пособить Лешиному семейству, а он-то сам знал, что спасти их от нужды смогли бы и полтарелки… Чтобы отвлечь меня от унизительных меркантильных соображений, Леша сказал, что когда-нибудь он будет приводить сюда друзей в интеллигентных девушек, чтобы говорить с ними об искусстве, потому что всех будет интересовать эта уникальная коллекция, и у него будет тогда много знакомых. Я обладал тогда абсолютной коммуникабельностью и сказал, что ключа от теплой квартиры достаточно, чтоб привести сюда любую клеевую телку с улицы Горького… И тут мы заговорили о том, что нас обоих занимало больше, чем тарелки, чашки, лозунги, подносы, чайники и коммунары, — о женщинах.
Прошли годы. Мы оба с Лешей сбежали из редакции. Он ушел заниматься бионикой, а я ушел «на вольные хлеба» художественного перевода и журналистики (хлеба, хоть и вольные, но довольно скудные). Лешина Вильма долго болела и померла совсем молодой, но дочка подросла… Леша увлекался одно время безногими девушками. Оказалось, что их много было, таких эстетов, как он, в Москве и собирались они на Ленинградском проспекте в сквере, напротив протезного завода. Безногие (и даже безрукие) девушки были недоступные и гордые, потому что пользовались успехом, были нарасхват. Леша посвятил меня в тайны их секс-клуба на Ленинградке, и я должен был признать, что это вполне гуманное отклонение от «нормы», не то, что какая-нибудь, столь модная на Западе педофилия.
Потом умер Лешин отец Иван Петрович, и у Леши с дочкой осталось на руках целое состояние. Тарелки оказались бесценными. Особенно высоко их ценили иностранцы, не читающие по-русски. Иностранцам даже забавным казалось, что русские писали там что-то про революцию, на своих тарелках. Замечено, что иностранцам ведь и фильм «Броненосец Потемкин» нравился безмерно. По этому последнему поводу один очень грамотный петербургский искусствовед (М. Герман) писал так:
«За границей «Броненосец Потемкин» воспринимался как новаторская и блистательная киноформула восстания, как откровение художественное… зритель… не замечал примитивную спрямленность сюжета, наивное разделение на злых и добрых, убогую мораль, воспевание террора…»
Впрочем. я уже намекал выше, что в большинстве случаев даже этот толковый искусствовед находит оправдания для «убогой морали» и «воспевания террора», широко распространенных тогда среди еще не посаженных и не расстрелянных советских творцов. Что уж тогда говорить о веселых иностранцах, не разжевавших соль русской азбуки, не понимающих смысла фальшивых надписей и даже издали сроду не видевших колючей проволоки концлагерей. Агрессивно-боевитые и нарядные тарелки (не оскверняемые ни кровавыми бифштексами, ни пустыми русскими щами) шли на мировых аукционах по баснословной цене, а у друга моего Леши были целые стены этих тарелок…
Счастья они, кажется, никому не принесли. Дочка бросила учебу, да и работу, внук предался безделью и самым вредным способам веселья чуть не с детских лет, оба лечатся помаленечку… Лешеньки нет, а поредевшие ряды тарелок с кричащими лозунгами все еще уходят за море, на Сотебис…
Похоже, что вообще судьба коллекций и их обладателей часто чревата бедами. Даже самых примитивных и малохудожественных из собраний — скажем, собрания устойчивых дензнаков, например, долларов…
Однажды за парижским обеденным столом, где для поддержания разговора и аппетита обычно произносят почти одни только банальности, я, быстро покончив с десертом, позволил себе озвучить первую пришедшую на ум банальность.
— Ах, — сказал я в ответ на какое-то бессмысленное сообщение о разорении кого-то мне мало знакомого, — не в деньгах счастье…
Брякнув, я понял по нависшему молчанию, что опять не попал в струю.
— Это смотря сколько денег, — поучительно сказал мне заморский гость-профессор.
Но, может, он прав. Может, там, за морем, там все иначе. Может, теперь и в Москве иначе… а только ведь и бедному другу моему Леше, одиноко ушедшему на Восток Вечный, да и его наследникам, которым я иногда звоню со своего шампанского хутора, счастья вся эта пролетарская агит-посуда не принесла.
… Лежу иногда под утро без сна и думаю о всяком. Пытаюсь, например, догадаться, зачем покупает англичанин за полмиллиона старую тарелку с неаппетитной надписью «Комиссар». Может, недожаренный бифштекс кажется ему на ней еще кровавее? Или пудинг кажется менее пресным? Носят же их милые вежливые дети маечки с портретом бородатого бандита Че Гевары… Как понять? Чужая душа потемки.
Дважды в одну реку
Итак, мы узнали из трудов советских искусствоведов, что Александра Щекотихина-Потоцкая, похоронившая мужа в голодном Петрограде 1920 г., но охваченная революционным порывом, пишет под водительством С. Чехонина кровожадные лозунги на фарфоровых тарелках и пытается уцелеть с маленьким сыном в общаге Дома искусств, где ей дали совершенно круглую комнату по соседству с Ходасевичем. Более существенные подробности о тогдашней ее революционной жизни удается узнать лишь по каким-то случайным письмам или уцелевшим дневниковым записям. Вот обнаруженная мной в дневнике Корнея Чуковского запись о его визите к художнику Замирайло:
«Живет он на В. О., Малый пр. 31, кв. 13. В квартире холод. Он сидит в пальто. В том же самом пальто выходит он на улицу. Только накинет на себя легонький плащ флотский. Ему теперь 55 лет. Старичок… Он влюблен в сестру Щекотихиной… Из-за Щекотихиной он и попал в тюрьму. Ее отец, подрядчик, подозревается в каких-то антисоветских кознях, из-за этого решили привлечь и ее друга…»
Упоминания о бедах семьи Щекатихиной не найдешь ни в одной монографии, но вот посторонний человек Чуковский проговорился. Знатоки щекатихинской и билибинской биографии промолчали, и Бенуа молчит… А он ведь, Чуковский, и Виктора-то Замирайло в первый раз в жизни видел… Между тем, был это вполне известный график и живописец. В 1916–1918 гг. он то завтракал, то полдничал, то просто чай пил у А. Н. Бенуа, о чем в дневниках Бенуа каждый раз было упомянуто. А в ноябрьской записи 1917 г. сказано — в связи с очередным чаепитием — даже о творчестве В. Замирайло:
«К чаю Замирайло… он совершенно сносен. При какой-то ограниченности мысли, он все же подлинно-художественная натура и, главное, обладает даром восхищения. А потом он как-никак первостатейный мастер — особенно в графике».
Записи Бенуа обрываются на 1918 г., еще не только ягодок, но и цветочков петербуржцы пока не понюхали, хотя Замирайло, с его «челом Виктора Гюго» уже выглядел в 1918 г. поплоше, чем в 17-м, а уж к началу 1923 г. он, по свидетельству Чуковского, — вообще обтрепанный старичок и сидит дома в пальто, дрожит от страха и холода.
Есть еще одна запись в дневнике Чуковского о визите к тому же Замирайло (30 января 1923 г.), из которой мы и узнаем, что Александре Щекотихиной, в сестру которой влюблен Замирайло, только что удалось сбежать от суровой зимы, от пшенного супа с селедкой и устрашающих подвалов ЧК, где к тому времени уже прикончили Гумилева, — сбежать за море. Чуковский спрашивает у «старика» Замирайло о судьбе художницы Александры Щекотихиной и слышит умиленное:
«Да, ей Билибин присылал такие теплые письма и телеграммы, что в Питере становилась оттепель: все начинало таять. Вот она вчера уехала, и сегодня впервые — мороз».
Значит, только накануне и уехала Александра Щекатихина с сыночком, то есть 29 января 1923 г. Взяла командировку от Наркомпроса — для изучения производства Берлинской фарфоровой мануфактуры, но в Берлине не задержалась — уже в феврале прибыла в Каир к Билибину. Командировку, вероятно, подписал Луначарский, но выпускал из счастливого Ленинграда, скорей всего, не Луначарский, а другой департамент, рангом повыше культурного. Мог бы и не выпустить, вот Блока, к примеру, не выпустили, несмотря на мольбы того же Луначарского: решено было, чтоб помирал гений на родине…
Иные из нынешних историков-оптимистов говорят, что тогда уехать было легко, кого хошь отпускали, даже хотели избавиться от лишних едоков, Луначарский, мол, это знал и легко выпускал.
Не знаю, было ли «уехать легко» когда-нибудь после путча 1917 г., было ли так легко сбежать или уехать в 1919, 1920, 1921 гг.
Бывало, конечно, что «высылали», но чтоб просто так — взять да уехать, не знаю… И высылкой, похоже, ведал не Луначарский, а другой орган — Лубянский…
Соседка Щекатихиной по Дому искусств, светлейшая княгиня Софья Волконская, героиня Великой войны, хирург и летчица, которую выпустили с мужем, сумевшим доказать, что он «эстонский дворянин», так вспоминала про свой отъезд из Петербурга: