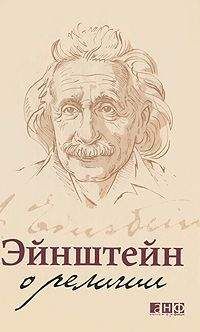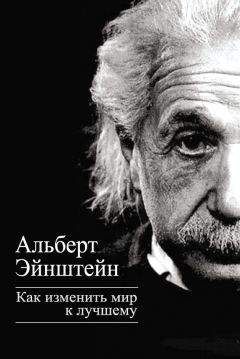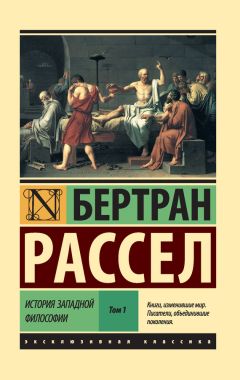Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
20. VII. 1962
Твардовский вызывает Солженицына телеграммой.
23. VII. 1962
Пришел в редакцию, открыл дверь в кабинет Александра Трифоновича, а там полно народу за «моим» длинным столом. На столе чай с бубликами – обсуждают Солженицына. Александр Трифонович поманил меня, представил автору, пригласил принять участие в разговоре.
Солженицына я вижу впервые. Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме – холщовых брюках и рубашке с расстегнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущен. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеется открыто, показывая два ряда крупных зубов.
Твардовский предложил ему – в максимально деликатной форме, ненавязчиво – подумать о замечаниях Лебедева[39] и Черноуцана[40]. Скажем, прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бендеровцам, дать кого-то из лагерного начальства (надзирателя хотя бы) в более примиренных, сдержанных тонах, не все же там были негодяи.
Дементьев[41] говорил о том же резче, прямолинейнее. Яро вступился за Эйзенштейна, его «Броненосец «Потемкин»». Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом. Впрочем, не художество его смущает, а держат те же опасения. Дементьев сказал также (я на это возражал), что автору важно подумать, как примут его повесть бывшие заключенные, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.
Это задело Солженицына. Он ответил, что о такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. «Есть книга, и есть я. Может быть, я и думаю о читателе, но это читатель вообще, а не разные категории… Потом, все эти люди не были на общих работах. Они, согласно своей квалификации или бывшему положению, устраивались обычно в комендатуре, на хлеборезке и т. п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на общих работах, то есть) зная это изнутри. Если бы я даже был в том же лагере, но наблюдал это со стороны, я бы этого не написал. Не написал бы, не понял и того, какое спасение труд…»
Зашел спор о том месте повести, где автор прямо говорит о положении кавторанга, что он – тонко чувствующий, мыслящий человек – должен превратиться в тупое животное. И тут Солженицын не уступал: «Это же самое главное. Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства – погибает. Я сам только тем и спасся. Мне страшно сейчас смотреть на фотографию, каким я оттуда вышел: тогда я был старше, чем теперь, лет на пятнадцать, и я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И только потому спасся. Если бы, как интеллигент, внутренне метался, нервничал, переживал все, что случилось, – наверняка бы погиб».
В ходе разговора Твардовский неосторожно упомянул о красном карандаше, который в последнюю минуту может то либо другое вычеркнуть из повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то, не показав ему текста? «Мне цельность этой вещи дороже ее напечатания», – сказал он.
Солженицын тщательно записал все замечания и предложения. Сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они идут на пользу; те, о которых он будет думать, трудные для него; и наконец, невозможные – те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.
Твардовский предлагал свои поправки робко, почти смущенно, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны.
Когда же заговорил Дементьев, Александр Трифонович весь обеспокоился, напрягся внутренне, и едва тот начал «кумекать», с легкой усмешкой покачал головой.
«Теплый холодного не разумеет», – как сказал Солженицын применительно к Шухову, вернувшемуся с мороза в барак, где мирно спорят Цезарь Маркович и кавторанг. Кстати, о споре этом: Солженицын очень верно заметил, что он нужен лишь как тень – читатель сквозь него должен видеть Шухова, стоящего за спинами спорщиков и ждущего своей пайки хлеба.
«А спор об Эйзенштейне, показавшийся Александру Григорьевичу литературным, я не выдумал, а в самом деле в лагере слышал».
27. VII. 1962
Сегодня забегал в редакцию Солженицын. Зашел и Соколов-Микитов[42].
С утра Твардовский очень запальчиво говорил о цензуре, о том, что хочет встретиться с Хрущевым и уговорить его, чтобы цензура на художественные произведения была отменена.
<.. >
1. VIII.1962
Решились: заново пишется письмо Н.С. Хрущеву об «Одном дне…».
Сегодня Твардовский приехал мрачный. Дементьев хотел переменить какое-то слово в уже готовом тексте письма.
– Ну, какое слово вы предложите? – с яростью спрашивал Александр Трифонович.
– Ты не волнуйся, Саша… Но есть какое-то такое «разрешите просить о… (и он щелкал пальцами, подыскивая ускользающее словечко)… помощи, поддержке…»
– Благословении? – ядовито отозвался Александр Трифонович. – Так вот, я вам скажу («вы» к Дементу, с которым он чаще на «ты», подчеркивало его раздражение), что слов в языке мало. На этот случай их всего 16… И 15 из них мы уже использовали.
6. VIII.1962
Письмо Хрущеву с рукописью «Одного дня» пошло к B.C. Лебедеву.
25. VIII.1962
<..>
С Солженицыным движения пока нет. Письмо и рукопись у B.C. Лебедева.
12. IX.1962
Твардовский собрал редколлегию по поводу книги Эренбурга. Очень резко говорил о ней. «Эта часть мемуаров могла бы стать главной – тут, в эти годы, расцвет деятельности Эренбурга. А она мелка, многое неприятно… Поза непогрешимого судьи, всегда все знавшего наперед и никогда не ошибавшегося».
<..>
– Если я, скажем, могу напечатать Солженицына, то и Эренбург может найти себе в журнале место. А если я не могу печатать Солженицына, а должен печатать Эренбурга (благодаря его особому, «сеттльментному» положению в литературе), тогда журнал получает однобокое направление, народной точки зрения в нем нет, а есть интеллигентское самолюбование.
Это аргумент веский. Сочиняли письмо Эренбургу, чтобы все высказать, но не обидно. На другой же день Эренбург атаковал Закса и всю редакцию, гневался, требовал сатисфакции.
<..>
Попутное
В сентябре 1962 года меня не было в редакции. Между тем события развивались так: между 9 и 14 сентября B.C. Лебедев на юге читал вслух повесть Солженицына Н.С. Хрущеву и А.И. Микояну. 15 (или 16) сентября – позвонил домой Твардовскому с известием, что повесть Хрущеву понравилась.
11 октября 1962 года Хрущев возвратился в Москву из поездки по Средней Азии, и надо было ждать событий.
8. X.1962
Месяц не писал, был в отпуске в Болгарии. За это время кое-что случилось. Александр Трифонович рассказал сегодня, что с солженицынской повестью сдвинулось дело. B.C. Лебедев, помощник Хрущева, на отдыхе, в Гаграх, выбрав время, как-то стал читать Никите Сергеевичу повесть. Читал и на другой день вечером. А потом, утром, были уже отложены все государственные дела, Хрущев позвал Микояна и читали второй раз вслух – эпизод про «красилей» и проч. Хрущеву очень понравилось, хотел пригласить Твардовского, но потом что-то передумал.
Срочно попросили тиснуть 25 экземпляров верстки в типографии, наверное для обсуждения. «Не хочет ли Хрущев дать своим сотоварищам предметный урок по критике культа личности?» – думает Твардовский.
«Когда был этот звонок, жена ждала меня обедать, все торопила. У нас вообще-то пуританский стиль отношений в семье, но тут я позвал ее с кухни, чтоб все бросила, и расчувствовался: «Победа, Маша, победа!»
«Я сказал Лебедеву: «Спасибо, что вы есть, что вы помогли нам». А он: «Спасибо, что вы есть. Видите, правда, она все же существует». А я: «Существует-то она существует. Но важно, как ее доложить»». Последние слова он произнес с заметным лукавством в голосе.
«Но вот я радовался: победа, победа, а ответа окончательного нет, дело как-то захрясло».
– Так всегда и бывает, – отозвался Сац. – В мае 45-го года то же чувство было.
22. X.1962
20 октября Твардовского принял Хрущев. Александр Трифонович рассказывает: «Я понял, что произошла какая-то общая подвижка льдов… Меня встретили с такой благожелательностью, как никогда раньше».
Об «Иване Денисовиче» Хрущев сказал: «Это жизнеутверждающее произведение. Я даже больше скажу – это партийное произведение. Если бы это было написано менее талантливо – это была бы, может быть, ошибочная вещь, но в том виде, как сейчас, она должна быть полезна».
Хрущев дал понять, что не все члены Президиума, которые знакомились с повестью, сразу ее раскусили. «А я сказал: идите и еще подумайте».
Твардовский говорил с Хрущевым и о цензуре. Сказал, что считает ненормальным положение, когда ЦК доверил ему журнал, а над ним поставлен неграмотный цензор: «Ведь «Ивана Денисовича» в цензуре бы зарезали». «Зарезали бы, зарезали», – жизнерадостно, со смехом подтвердил Хрущев.