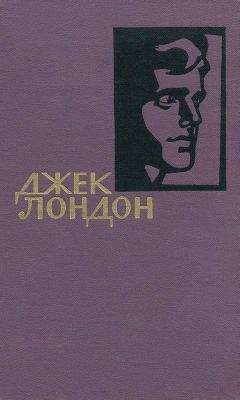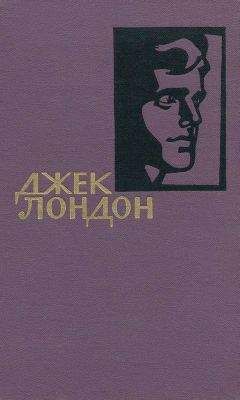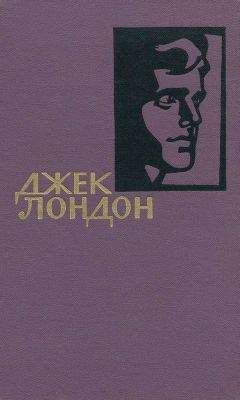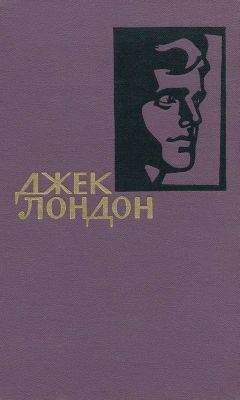Владимир Алейников - Нескончаемый дар
А потом он и вовсе стал уклоняться от встреч.
Зачем они?
Дело ведь было сделано.
– Володя, прости, дорогой! – сразу начинал он говорить, если я изредка звонил ему, – не могу увидеться. Спешу. Машина ждёт. В пальто стою.
Навязываться людям – не в моих правилах.
Я и перестал Рейну звонить.
Зачем?
Он – всегда стоит в пальто, его ждёт машина.
Он всегда торопится, всегда занят.
Ему не до встреч.
Но это было – позже.
А сейчас Женя всячески демонстрировал свою расположенность ко мне, своё внимание ко мне.
Вот он и листал мою перепечатку, вот и зачитывал вслух отдельные, нравящиеся ему, куски.
Может быть, и была в этом искренность, допускаю.
Но была и нарочитость.
Я это чувствовал.
Была торопливая какая-то фальшь, иначе не скажешь. Наигранность.
Нет, игра.
(Игра. Наверное – в бисер.
Гессе. А может – Гёте?
Не Гейне ли? Гофман? Гауф?
Словом, сплошное «Г».)
Женя – играл передо мною.
Играл ещё одну свою роль.
Временную.
Не соответствующую его репертуару.
Вынужденную даже.
Но – что делать – приходилось отрабатывать.
При его-то, несмотря на вдохновенные порывы и всякие житейские безумные истории, несомненном и развитом практицизме.
При его-то ревности – вспоминаю, Володя Брагинский рассказывал: как они с Ильёй Смирновым, объединившись, всё поддразнивали находившегося в гостях у Ильи и читавшего там стихи, а потом и выпившего, возбуждённого Рейна, – что вот, мол, конечно, стихи у него нормальные, – но Володя Алейников пишет стихи лучше, и куда лучше, чем он, Женя, – и тогда Рейн, от невозможности возразить что-нибудь на это, разозлившись, бессильно как-то, но и с вызовом, вместе с тем, схватил со стола фужер и с размаху грохнул его об пол, – при его ревности, повторяю, хоть и скрываемой, из тактических и стратегических соображений, но иногда и, поскольку трудно копить её внутри, в себе, таки прорывающейся наружу, – он удосужился вроде более-менее внимательно прочитать мои тексты.
И он, актёр, да ещё какой, читал – передо мною, как перед зрителем, – а вовсе не мне, поэту, – мои стихи.
Я – молчал и мрачнел.
Всяческие предчувствия относительно нашего с Рейном общения уже пробудились во мне.
Предчувствия были верными.
Быть не могло иначе.
От стихов, как бывало всегда, постепенно перешли мы к беседам на житейские, так сказать, приземлённые темы.
Стали оба припоминать былые годы с их суровой школой.
Я, довольно сдержанно, впрочем, поскольку и тяжело это было, и грустно, рассказывал Жене – кое-что, разумеется, так, частицы, крупицы, детали, но уж вовсе не всё – о своих, миновавших, по счастью, бездомных скитаниях.
Женя оживившись, припомнил и что-то своё.
И тут же выдал мне серию знаменитых своих баек.
Байки были обильно приправлены юмором, а ещё и, конечно, иронией, а ещё хороши были их интонации, тон, да и всё, что связано именно с голосом, со звучанием голоса, и, конечно же, с мимикой, с жестами, то есть с тем же актерством.
Слово за слово, и коснулись мы прежней, всеобщей, повальной нищеты нашей.
– Даже в худшие годы, – вдруг сказал, со значением, Рейн, – даже в худшие свои годы, – тут он наставительно поднял указательный, палец и выразительно помахал им в накуренном, спёртом, перенасыщенном зыбкими, тягучими слоями сизовато-белёсого табачного дыма и прорывающимися сквозь него, приглушёнными, но этакими ориентально-нервическими джазовыми синкопами эллингтоновского «Каравана», пряными, жгучими россыпями то и дело слетающими с чёрного, тускло отсвечивающего диска кружащейся на стереофоническом проигрывателе граммофонной пластинки, – даже в худшие годы, – сызнова, намеренно, подчеркнул он, – я никогда не ходил без стольника в кармане!
Сказав это, Женя, с некоторым, вроде как скрывающим некую тайну относительно безбедного существования, полупризнанием-полувызовом, полудоверчиво-полупобедно, шевеля безнадёжно густыми бровями, в упор посмотрел на меня.
Что ему мог я ответить на это?
В прежние годы, бывало, и захудалого пятака на метро, не то что каких-то там стольников – такое и присниться не могло, – не было у меня.
Вот и ходил преимущественно пешком.
Голодуха сплошная, отсутствие крова, ночлега, стоптанные башмаки – да звёзды над головой.
Хроническое безденежье – к этому не привыкать.
Несмотря ни на что, я работал.
Вопреки всему, я писал.
Перемучишься снова, бывало, – и опять появлялись, меня исцеляя, стихи.
Так и жил столько лет. Но и – выжил.
Я опять промолчал.
На столе перед Рейном лежала недавно изданная «Советским писателем» небольшая книжка его стихов.
Теперь ему позарез нужна была – вторая.
Первая, наконец-то, не по возрасту поздно, а всё-таки вышедшая, – лежала всегда под рукой, была всегда на виду. Рядом с ней – нет, не рядом, а осторонь! – лежала большая самиздатовская моя перепечатка – лишь малая, даже крохотная, часть написанного мною за многие годы, – и ни одна строка из неё издана не была.
Прошло несколько лет.
Книги мои наконец были изданы.
Я подарил их Рейну.
Количество их и объём – впечатляли.
Время от времени Рейн говорил:
– Ты много книг издал!
Я обычно отвечал:
– Ещё больше моих текстов – так и не изданы.
Он шевелил мохнатыми бровями и смотрел за окно.
Может быть, вспоминал он тогда свои собственные слова, сказанные мне на самой заре свободного, бесцензурного книгопечатания, когда разом открылись, казалось, все шлюзы и печататься можно было, как привыкли у нас говорить, без проблем – то есть подразумевалось буквально следующее: что принёс в редакцию, то сразу же, вскорости, и напечатают, без всяких там вторжений в текст и сокращений – без этой советской практики прежних лет, напечатают – в подлинном виде, так, как написано, – и казалось тогда нам всем, что, похоже, уже наступают ежели и не райские, то по крайней мере вольготные времена, и они потом наступили, но смотря для кого и когда, но об этом пока ничего мы не знали, – только радовались новизне, и её небывалости, и тому, что, наверное, сбудутся наши надежды на лучшее время, и тому, что, выходит, уже дождались хоть чего-то нормального, и уже есть такая возможность – издаваться везде, где захочешь, широко, свободно, на выбор, где надумаешь, где пожелаешь, потому что везде тебе рады, а стихам твоим – и тем более, так уж рады, что диву даёшься, – так, наивно, по-детски, казалось – мне, во всяком случае, – Рейну что мерещилось – я не знаю, ведь чужая душа – потёмки, но тогда говорил он вот что:
– Представляешь, такие возможности вдруг открылись – везде издаваться! Только что же мне издавать? Сколько есть у меня стихов? Сотни три наберётся, пожалуй. Вот и всё. Что мне делать – не знаю.
Я сказал ему, помню, тогда:
– Сотни три – это тоже ведь много. И тем более, если стихи все хорошие. Для поэта, сам ты знаешь, это неважно – сколько он написал вещей. Были б сильными эти вещи, долговечными, – вот что важно. Было б слово живо его. Остальное – так, приложенье, – не к чему-нибудь, а к труду. Не печалься. Всё у тебя впереди. Всё сбудется вскоре. Уж во всяком случае, знаю, – у тебя. И куда скорее и удачней, чем у меня.
Посочувствовал я ему. Успокоил его. Утешил.
И тогда же – отчётливо понял: мне с моими стихами, которых написал я несколько тысяч, ждать хорошей поры для себя – много дольше придётся. Но сколько же? И дождусь ли? И что же дальше?
«Дальше – время твоё настанет!» – ясный голос мне вдруг сказал.
Я – услышал его.
И – понял.
И поэтому – промолчал.
О себе – ничего не сказал.
Наперёд говорить – не стану.
И тем более – Рейну, с его размышленьями: что же ему издавать, если текстов – немного?
Ничего. Что-нибудь да напишет. И ещё, и ещё, и ещё.
Я же – как-нибудь сам разберусь: и с собою самим, повсюду и везде бывшим белой вороной, инородным телом, случайным гостем – там, на всеобщем пиру, и ушедшем оттуда вдруг, чтобы в глушь отойти и в тишь, чтобы там, в стороне от всех, где покой и воля, – работать, продлевая дыханье речи, продолжая духовный путь, – и тем более разберусь, без подсказчиков, без суеты, сам, как есть, со своими стихами, – дай им Бог и впредь появляться и хранить в себе свет живой.
В чём же вся, если вдуматься, разница – между мною и Рейном?
У меня – ведическое мироощущение.
В нём время и пространство, да и все измерения, – заодно, в единстве, в гармонии.
И стараюсь я выразить – единство сущего.
И весь мир мой, земля моя, почва, на которой живу я и с которой никуда никогда я не уходил – мне дом.
Рейн – питерский парижанин и сплошной горожанин.
Он – данник и пленник своего, земного, ему отпущенного, времени, выразитель – только его, изобразитель – сугубо земных, повседневных, людских забот и страстей.
Рейн – агитатор «за искусство» и комментатор искусств. И тем более – литературы. Но, конечно же, хочется – большего. Потому-то, наверное, в совершенно случайно увиденном мною фрагменте снятого неким зарубежным гастролёром видеофильма он, потрясая воздетыми ввысь руками, патетически восклицал: «Я лучше всех в России разбираюсь в стихах!..» Что ж, совсем хорошо, если вправду – вот так. Только время – его, человечье, – его же спасательный круг. На воде, на широкой воде мирового пространства. Надо крепко держаться за круг. Если вдруг ненароком упустит его – что же будет потом – с ним, таким городским, и бравурным, и вальяжным, и полубезумным – но, однако же, трезвым, разумным, несмотря на повадки свои и сумбурную некогда жизнь? Надо крепче держаться за круг – то ли города, то ли иного, гуще, круче, людского скопленья. Там – спасенье, и там – впечатленья, поощренья, даренья, всё – там. Одного лишь там нету – горенья. И того, что за этим: прозренья. Есть – людской толчеи пузыренье, за которым, как призрак, – старенье. И – с собою, давнишним, – боренье, коль захочется фарсов и драм. Но возносятся – благодаренья, за судьбу, – к городским небесам. Потому что дано и паренье, приобщенье – к иным голосам.