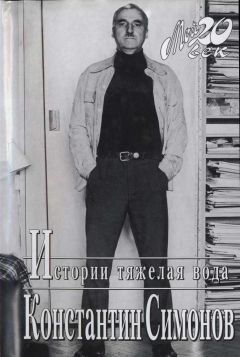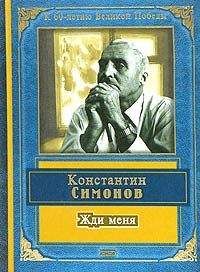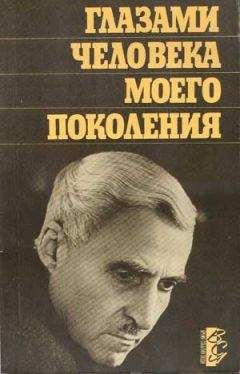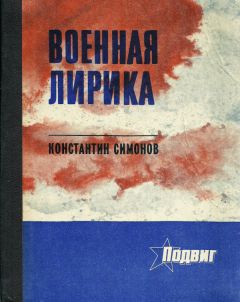Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Эренбургу в этих корреспонденциях, особенно в тот длительный период, когда наши союзники все не открывали и не открывали второй фронт, выдвигая в свое оправдание все новые и новые и все менее и менее уважительные причины, приходилось вступать в полемику и по этому, и по целому ряду других вопросов. И, вступая в споры, Эренбург не склонен был проявлять ни застенчивости, ни уклончивости, ни прибегать к деликатному огибанию острых углов.
Корреспонденции, которые посылал за рубеж Эренбург, не только были полны глубочайшей веры в свою страну, в свой народ, в свою армию, они не только дышали гордостью за советских людей, сделавших на этой войне, казалось бы, невозможное. Корреспонденции Эренбурга были непримиримыми по отношению ко всем тем, кто на Западе не желал воевать в полную силу. Ко всем, кто отсиживался, оттягивал открытие второго фронта, надеялся загрести жар чужими руками.
Корреспонденции Эренбурга полны полемики, имеющей не только исторический, но самый живой современный интерес. Он полемизирует с английской и американской печатью, которая пыталась преуменьшить масштабы наших усилий и преувеличить масштабы усилий наших союзников. Он полемизирует с теми из западных военных корреспондентов, которые писали отсюда, из России, в свои газеты неправду или полуправду. Он полемизирует с охотниками оттянуть открытие второго фронта, со всеми, невзирая на лица, вплоть до Черчилля! Он с ядовитой иронией высмеивает всех, кто там, на Западе, к концу войны, спекулируя понятием гуманизма, уже начинал готовиться к предстоящему списанию грехов с военных преступников.
Это о них, разоблачая всю лживость их мнимого человеколюбия, он написал в одной из своих корреспонденций, что «нельзя одновременно любить и людей, и людоедов».
Это об их подзащитных, которых они потом, уже после войны, с таким рвением защищали, сокращая им сроки отсидок и оправдывая их, он писал с беспощадным сарказмом, что «ведьмы уже запаслись носовыми платочками».
Нравилось или не нравилось это в редакциях тех французских, английских и американских газет, куда писал Эренбург, но он называл в своих корреспонденциях вещи своими именами. Туда, в их газеты, он писал осенью сорок второго года, в дни сталинградских боев, что «Октябрь 1917 года проверен в октябре 1942–го» и что «Октябрьская революция вторично спасла Россию».
И сразу же после победы, когда на Западе появились охотники приписать себе хотя бы половину ее — дальше аппетиты в то время еще не шли, — Эренбург, отвечая им, уже тогда ставил все точки над «и». И в первой же своей послевоенной корреспонденции писал: «рели осмотреть труп фашизма, — на нем много ранений, от царапин до тяжелых ран. Но одна рана была смертельной, и ее нанесла фашизму Красная Армия».
Только теперь, через двадцать восемь лет после Победы, прочтя все это вместе, я понял, с какой существенной частью работы Ильи Эренбурга мы, его товарищи по редакции, не были знакомы в годы войны; понял, какие масштабы и политическое значение имела эта его работа, невидимая для нас тогда, как бывает невидима подводная часть айсберга.
Встречи с Чаплином
Летом 1946 года, во время поездки по Соединенным Штатам Америки, я оказался в Голливуде и в первый же день своего приезда спросил у нашего консула, не может ли он мне помочь увидеться с Чарли Чаплином.
— Что ж, надеюсь, что это возможно, — сказал он. — Чаплин вообще прекрасно относится к людям, приезжающим из Советского Союза. Я позвоню ему от вашего имени.
На следующее утро, вновь увидев консула, я узнал, что он уже звонил Чаплину.
— Чаплин просит вас заехать сегодня в два часа дня к нему на студию. Он просит извинения, что назначает вам свидание там, но он сейчас репетирует новый фильм, готовится начать съемки, с утра до вечера пропадает на студии и поэтому может принять вас только там.
В половине второго мы вдвоем с переводчиком поехали к Чаплину.
Расстояния в Лос — Анджелесе изрядные, и мы проехали почти полчаса, прежде чем остановились на широкой улице около маленькой зеленой калиточки. За калиткой и забором виднелись невысокие деревья и несколько низких одноэтажных зданий. Я не сразу понял, что мы добрались до места, и, когда мой переводчик Бернард Котэн сказал, что это и есть киностудия мистера Чаплина, я был немножко удивлен. Простой заборчик, низенькие, как мне показалось, деревянные одноэтажные строения… Мне представлялось, что студия, в которой работает Чаплин, должна выглядеть совсем по — другому. Мы прошли между двумя палисадничками, вошли в какие‑то маленькие воротца, за которыми находилась тоже маленькая проходная будка. Будка была совсем крохотная, похожая на телефон — автомат; справа будка с маленьким окошечком, прямо — калитка во двор, а слева несколько скамеек, на которых сидели три или четыре человека, должно быть актеры. Я тоже присел на скамейку, рядом с ними, а Котэн утонул головой в окошечке будки. Я услышал, как он повторяет: «Мистер Чаплин, мистер Чаплин… два часа… два часа, мистер Чаплин, мистер Чаплин, мистер Симонов… два часа…» Он говорил что‑то еще, но я понимал только в пределах моего явно недостаточного знания английского языка.
Девица в окошечке что‑то отрывисто и, как мне показалось, даже сердито отвечала ему, и он опять твердил свое: «Мистер Симонов… мистер Чаплин… два часа». Это продолжалось несколько минут, потом он повернулся ко мне и сказал с досадой:
— Удивительное дело, она ровно ничего не знает!
— Пусть она позвонит и напомнит Чаплину — может быть, он забыл, — сказал я.
— Она отказывается ему звонить, потому что он сейчас репетирует.
— Так что ж мы будем делать?
— Придется ждать здесь. Может быть, придет кто‑нибудь из тех, кто должен явиться к нему на репетицию, я пошлю ему записку. А может быть, он сам вспомнит и позвонит сюда.
Мы сели на скамейку рядом и стали ждать.
Бернард Котэн, с которым мы ездили по Америке уже третий месяц, нисколько не стеснялся все это время ругать при мне все, что ему не нравилось в Америке с его позиций либерального американца, но в то же время с такой же горячностью хвалил все, что в американской жизни и в американском быту казалось ему хорошим и достойным подражания. В особенности он любил подчеркивать американскую точность, она была его коньком, тем более что он сам в любых обстоятельствах оставался эталоном этой точности. А теперь мы сидели с ним рядом на скамейке перед закрытой дверью и абсолютно не представляли себе, сколько нам еще придется сидеть. Через полчаса молча клокотавший рядом со мной Котэн вновь подошел к проходной будке и попросил девушку позвонить Чаплину, но получил тот же самый ответ: мистер Чаплин репетирует, и, пока он репетирует, она не будет ему звонить. Котэн снова уселся рядом со мной и на этот раз начал клокотать уже не молча, а вслух:
— Вот эта вечная неточность! Эта вечная безалаберность! Эта вечная неразбериха всегда и всюду, где имеешь дело с артистами и им подобными людьми!..
Он изъяснялся в этом духе довольно долго. Когда я снова посмотрел на часы, на них было уже несколько минут четвертого. Пошел второй час ожидания. Мне самому было досадно, но Котэн, совершенно очевидно, страдал еще больше меня, и я, чтобы прекратить его страдания, сказал ему, что нам, пожалуй, следует уйти. Мистер Чаплин — великий человек, но больше часа не следует ждать даже великих людей. Вернемся в гостиницу, а вечером позвоним, — может быть, произошло недоразумение и нас ждали не сегодня, а завтра?
Именно в этот момент открылась калитка студии и в ней появился высокий седой мужчина, к которому кинулся Котэн. Они перебросились несколькими словами, мужчина ушел и почти тотчас же вернулся и сказал, что мистер Чаплин просит, бога ради, извинить его, что он с утра беспрерывно репетирует, но скоро закончит и просит нам передать, чтобы мы пока шли на студию и ходили бы там всюду, где захотим, и делали все, что захотим.
Седой мужчина исчез так же быстро, как появился, а мы вошли во двор.
Это был обыкновенный студийный двор, только немного меньше и немножко чище, чем я привык видеть у нас. Во дворе стояло несколько одноэтажных домиков, а кругом них довольно много декораций, совсем новеньких, только что покрашенных, и старых, обветшалых.
В Голливуде благословенный для кинопромышленности климат — средняя годовая температура что‑то около десяти градусов тепла, и круглый год не бывает ни сильной жары, ни сильных дождей, ни снега. Поэтому неудивительно, что многие декорации стояли здесь в более или менее сохранившемся виде уже долгие годы. Мы бродили между ними, словно по смутно знакомому городу, то здесь, то там вдруг узнавая то, что мы уже видели в картинах Чаплина. Вот это — стена парикмахерской из «Диктатора», а вот это — часть стены дома из «Новых времен», а вот это — фасад здания из фильма «Огни большого города»…