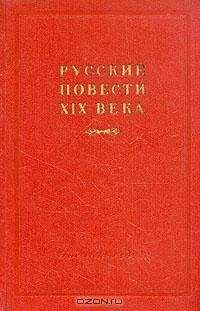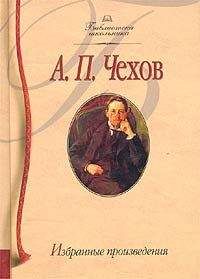Лео Яковлев - Антон Чехов. Роман с евреями
Много ему попадало за Суворина и «Новое время». Он навсегда запомнил, как Суворин вместе с Григоровичем, Плещеевым и Полонским помогли ему выбраться из «Осколков» и «Будильника» и сохранил к Суворину благодарность как за это, так и за его личные неизменно до конца дружеские отношения. И, однако, при всем этом, он, который когда-то утверждал, что «будет печатать там, куда занесет ветер и свобода», уже с начала 90-х годов перестает печататься в «Новом времени», а после процесса Дрейфуса, возмущенный отвратительным поведением «Нового времени», он резко и навсегда порвал с редакцией и не мог потом хладнокровно говорить о ней. Он стал, как известно, своим человеком в «Русской мысли» и «Русских ведомостях». Но лично с Сувориным он сохранил, хотя и несколько охладевшие отношения до конца. Объясняется это в значительной степени тем, что в своей интимной переписке с Чеховым Суворин бывал часто не Сувориным «Нового времени». И о студенческих беспорядках и даже о процессе Дрейфуса и о многих других тогдашних явлениях русской жизни он в своих письмах писал так, что когда Чехов передавал их содержание или изредка читал некоторые отрывки из писем этих, то не верилось, что автором был Суворин. Вообще обнародование этих писем представляло бы громадный общественный интерес. К сожалению, этого никогда не случится. Вскоре после смерти Чехова я раз срочно был вызван Марией Павловной, и она рассказала мне, что утром прямо с парохода явился к ней Суворин, специально для этого приехавший из Феодосии, и долго убеждал ее вернуть ему его переписку с Антоном Павловичем. Она этим уговорам поддалась, о чем потом очень жалела, а Суворин письма, конечно, уничтожил. Между прочим, Суворин аккуратно снабжал Чехова нелегальным «Освобождением».
В ялтинский период интерес Чехова к общественным вопросам был велик и, я сказал бы, все возрастал. Кажется, не было ни одного относящегося сюда явления, на котором он не остановился бы в наших беседах, и «миросозерцание» его было часто много левее среднепрогрессивного. При этом я заметил, как много своих мыслей он вкладывал в уста некоторых своих героев, а впоследствии из обнародованной его переписки увидал, что развитие его миросозерцания и «выдавливание из себя по каплям раба» шло в неизменном направлении задолго до «третьего периода». В дневнике Чехова мы находим запись по поводу банкета в годовщину освобождения крестьян: «Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п. в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, а на улицах, на морозе ждут кучера, — это значит лгать святому духу»; и этих же тем, почти в тех же выражениях он неоднократно касался и в разговорах. И. А. Бунин приводит слова Антона Павловича: «Я терпеть не могу русских студентов». Это были, конечно, слова, брошенные в пылу полушуточного разговора. Я помню его горячий спор с академиком Н. П. Кондаковым, который по поводу петербургских студенческих беспорядков осуждал и власть и профессуру, но очень бранил и студентов, и как Чехов защищал последних, а когда Кондаков ушел, заметил: «Вот оттого и бунтуют молодые, что такие старики». Он особенно горячо всегда хлопотал о помощи учащимся, и сам оказывал им посильную материальную поддержку. Он только и тут не допускал фальши и не закрывал глаз на то, что и в их среде попадаются всякие и что случается, что радикальный студент потом делает в качестве прокурора карьеру на политических процессах. Между прочим, того же Кондакова он однажды долго и серьезно убеждал провести в академики Михайловского. Когда в 1902 году были отменены выборы Горького в Академию, он, как известно, послал свой мотивированный отказ от этого почетного звания. А чтобы оценить этот поступок, нужно, между прочим, вспомнить, с каким отвращением он относился ко всякого рода публичным выступлениям и демонстрациям.
Чехов говорил, как и писал, необыкновенно просто и не выносил пышных, надуманных, искусственных фраз. Как-то сидела у него передовая дама, говорила долго обо всяких высоких материях. Он молча слушал ее, а когда она вышла, расхохотался и определил: «Ну и шарманка», и так шарманкой она и осталась. И с каким юмором он рассказывал, как одна наша общая знакомая, тогда убежденная эсдечка, доказывала ему, что после «Мужиков» и «Оврага» и участия его в журнале «Жизнь» он ведь уже стал настоящим марксистом, но только еще сам этого не осознал.
Во всей биографии Чехова нельзя найти и намека на какой-нибудь антиобщественный или некорректный поступок. И когда в последний год своей жизни он не раз убежденно кончал разговор словами: «Вот увидите, скоро у нас будет конституция», то это была не фраза, а выражение искреннего убеждения.
Чехова отличало, я бы сказал, благоговейное отношение к науке. О Горьком и других вышедших из народа писателях-самоучках (их называли «подмаксимками») он говорил: «Вот бы им только подучиться, а то без образования нельзя». Он верил, что безостановочный прогресс науки облагородит человечество. И тут он, глубокий скептик во всем остальном, становился энтузиастом.
Антон Павлович был, как известно, врачом и очень любил медицину. Студентом и первое время по окончании не собирался бросать ее. Еще во второй половине 80-х годов он писал, что «медицина моя законная жена, а литература — любовница» или «я врач и по уши втянулся в свою медицину». По окончании курса он заменял одно время врача Звенигородской земской больницы и уездного врача. И в Москве занимался частной практикой. По-видимому, собирался писать и какую-то специальную работу. Надо думать, он и на свой Сахалин смотрел как на медико-статистическую работу. Готовясь к поездке, очень серьезно, тщательно сам разработал регистрационную карточку, и там, на Сахалине, проделал громадную статистическую работу, в течение трех месяцев обошел всю каторгу с севера на юг, лично опросил всех каторжан и заполнил 10 000 индивидуальных карточек. В Мелихове до перехода своего на положение больного, т. е. в течение 5–6 лет, он принимал до 1000 обращавшихся к нему больных крестьян в год. Где-то я даже читал, что Чехов выражал желание, уже после поездки на Сахалин, «взять» приват-доцентуру по внутренним болезням, но это, конечно, вздор, как и заявление, что в его книжном шкафу в Ялте был значительный отдел медицинских книг. Там было несколько старых учебников и лекций Захарьина, и никогда я не видел и не слышал от него, чтобы он в эти книги заглядывал. С 97-го года он от медицины совсем отошел. Правда, из редакции «Русской мысли» ему аккуратно пересылали еженедельник «Русский врач», но он в нем просматривал только хронику и иногда мелкие «Заметки из практики» и любил поражать вычитанными «новыми средствами». И на письменном столе на определенном месте, как, впрочем, все на этом столе, всегда лежали молоточек, трубочка и медицинский календарь Риккера за текущий год. Он принимал всегда деятельное консультативное участие в лечении своих домашних, любил давать советы приятелям. Но обычно это оканчивалось указанием, что надо серьезно лечиться и обратиться к врачу… Любил писать рецепты. О своей работе в земской среде он всегда вспоминал и рассказывал с теплым чувством. Связь с ней он не порывал до конца жизни. Он не раз повторял, что медицина не только значительно продвинула область его наблюдений, обогатила знанием, но и считал, что, в частности, она имела серьезное влияние и на его литературную деятельность. Естественно, что он хорошо знал врачебную среду, — и ни у одного автора, не было выведено столько типов врачей, как у Чехова. Тема о врачах в произведениях Чехова может служить темой интересного исследования.
Тем обстоятельством, что Чехов был врач, объясняются и некоторые особенности истории его болезни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в две возможные крайности: или они переоценивают свои болезненные ощущения и симптомы и относят к себе все наиболее неблагоприятное, что знают из книг или практики про свою болезнь, или, наоборот, недооценивают того, что есть, отмахиваются от самых, казалось бы, убедительных симптомов, опять-таки стараясь обосновать свое отношение специально медицинскими доводами и соображениями. Много писалось и о специальной психике туберкулезных. Но и среди последних можно наблюдать такие же разнообразные характеры и типы, как и среди страдающих другими болезнями. Только здесь под влиянием некоторых особенностей течения болезни, ее часто медленного развития и длительности и созданных этими особенностями особых условий указанное выше ненормальное отношение к болезни сказывается особенно резко. Чехов является ярким примером длительного и упорного игнорирования, казалось бы, ясных и бесспорных явлений.
Я уже указывал, что в первое время нашего знакомства о его болезни разговора не было и осторожные мои и доктора Орлова попытки коснуться этого вопроса успеха не имели; и во время нашей короткой совместной жизни он нередко обращал внимание на мой кашель и серьезно советовал мне серьезно заняться своим здоровьем, но тщательно избегал касаться своего недуга. 27 ноября, вскоре после моего возвращения из краткой отлучки на север, мне рано утром подали доставленную от Чехова в запечатанном конверте записку: «Cher monsieur, auries vous l'obligeance de venir chez moi. Je garde le lit. Votre devoue. Tsch.» и после этих изысканных французских строк по-русски: «Захватите с собой, товарищ, стетоскопчик и ларингоскопчик». Ларингоскопчика я не захватил, поняв, что это лишнее, но поспешил к нему и застал его в постели с порядочным кровохарканьем. И с этого дня он становится уже моим пациентом. Когда через несколько дней после остановки кровохарканья я мог детально его исследовать, то был поражен найденным. Я нашел распространенное поражение обоих легких, особенно правого, с явлениями распада легочной ткани, следы плевритов, значительно ослабленную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Приходилось читать, что Чехов заболел, блуждая осенью 1896 года целую ночь по Петербургу, после провала «Чайки». Это одна из легенд. При этом нашем первом медицинском разговоре он начал летосчисление с года поездки на Сахалин (1890), когда у него еще по дороге туда случилось кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно появлялось уже в 1884 году и потом нередко, иногда по несколько раз в год повторялось, 15-ти лет от роду он перенес какое-то острое длительное лихорадочное заболевание, после того как выкупался в ледяной воде, и провалялся тогда некоторое время в еврейской корчме в степи (впоследствии им описанной) и затем еще довольно долго и дома. И в студенческие годы, как я узнал потом от товарища его, студентом проживавшего у Чеховых, он много кашлял, нередко лихорадил, объясняя это простудой, никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы «чего-нибудь там не нашли». Суворин, имевший возможность близко наблюдать Чехова во время их совместных путешествий и частых встреч, настаивал на необходимости лечиться, и Чехов в своих письмах к нему, хотя и подтверждает наличность кашля и кровохаркании, и признает, что последние пугают его, так как «в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве», но тут же наставительно, как врач, поучает, что «чахотка или иное серьезное легочное страдание узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно нет этой совокупности». И в другом письме: «Если бы кровотечение, какое у меня случилось в окружном суде (в 1885 году на знаменитом процессе скопинского банка), было симптомом чахотки, то я давно уже был бы на том свете, вот моя логика». В 1889 году умер от туберкулеза брат его Николай, художник, но и это не подействовало, и в 1891 году он пишет: «Я продолжаю тупеть, чахнуть и кашлять. Впрочем, все это от Бога. Лечение и забота о своем физическом существовании внушает мне что-то близкое к отвращению. Лечиться не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя какому-нибудь врачу не позволю». И не позволял себя выслушивать и не обращался к врачам до весны 1897 года (почти 15 лет!), когда хлынувшая за обедом с Сувориным в «Славянском базаре» обильная кровь и вмешательство Суворина и врача заставили его лечь в клинику профессора Остроумова, где был диагностирован активный процесс в обоих легких. На этот раз Чехов понял и уже на следующий день из клиники писал: «Для успокоения больных им говорят, что кашель желудочный, а кровь геморроидальная. У меня кровь идет из правого легкого, как у брата и другой родственницы, тоже умершей от чахотки». Затем лето в деревне, осень и зима на Ривьере, где он живет, но не лечится, и уехал оттуда в Париж, уже в середине марта, в самое неподходящее время, когда многие как раз спасаются на Ривьеру. Сестра и брат его отмечают, что по возвращении его из-за границы летом в Мелихове по обыкновению было много гостей, друзей, но он уже не шутил, был задумчив и стал мало разговаривать. И вот теперь в Ялте ему опять пришлось обратиться к врачу. Однако мои тогдашние старания убедить Чехова в необходимости приняться серьезно за лечение сначала опять оставались без особого результата. Он упорно повторял, что лечиться, заботиться о здоровье внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, и если уж приходилось кашлять, то мокрота по возможности незаметно отплевывалась в маленький заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же спрятанный где-нибудь за книгами и отправляемый потом в камин. И не только с посторонними не любил он говорить о своей болезни, но от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался и на вопрос: «Как себя чувствуешь?» — отвечал: «Сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель». Так как, пользуясь современной терминологией, мой блицкриг не удался, то я повел медленное наступление, и постепенно, с трудом, но добился относительных успехов, так что к 1901 году он перешел уже на положение настоящего пациента и сам уже иногда предлагал: «Давайте послушаемтесь». Трудно было ему привыкнуть к Ялте, к «теплой Сибири», как он ее называл, или после процесса Дрейфуса еще «Чертовым островом». Трудно ему было примириться с оторванностью от привычной литературной среды, привычной обстановки, скучно «без культуры, без московского звона», последнее особенно.