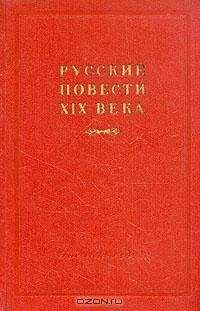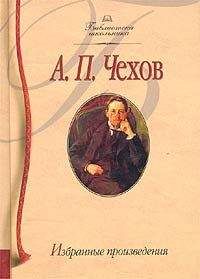Лео Яковлев - Антон Чехов. Роман с евреями
После смерти Антона Исаак Альтшуллер и его дети сохранили самые теплые отношения с Марией Чеховой. У нее же они познакомились с гениальным актером Михаилом Чеховым, племянником Антона, но крушение империи и Октябрьский переворот разделили их всех.
В 1917 г. Исаак Альтшуллер уехал в Германию. Позднее он переехал в Прагу, а когда в Европе вспыхнула война, с сыном Григорием переселился в США, где к тому времени уже обосновались его сын Владимир и дочь Катя. В России из их большой семьи оставался только сын Лев, работавший в Госиздате.
Но куда бы ни заносила жизнь Исаака Альтшуллера и его детей, одним из тайных центров их семейного мира оставалась чеховская «белая дача» в Ялте, и об этом говорят их письма к «Ma-Па» — Марии Чеховой, сохранившиеся в ее архиве.
«И скамейка, и сад, и вход в нижний этаж, и вообще ведь каждый кусочек сада поднимает рой воспоминаний, самых для меня дорогих»;
«…шаг за шагом обошел все комнаты и заглянул во все закоулки… А потом поднялся в светелку и вышел на балкон»;
«Если бы Вы знали, как часто я бываю у Вас на даче и представляю себе Вас…»
Все это — слова из писем Исаака Альтшуллера Марии Чеховой из Берлина, написанные в 1929 г. и вызванные постоянно возникавшими в его сознании видениями «белой дачи» и воспоминаниями о встречах с Антоном и Марией.
«Милая Ма-Па! <…> Как бы хотелось посидеть с Вами в милом домике, с которым столько связано детских воспоминаний» — это из письма Кати, отправленного из Нью-Йорка в 1946 г.
Трижды Исаак Альтшуллер обращался к воспоминаниям о Чехове. Свои первые заметки он опубликовал в России в газете «Русские ведомости» в 1914 г., в год десятилетия со дня смерти Чехова. Затем еще через пятнадцать лет он написал более полные воспоминания, появившиеся в Париже в журнале «Современные записки» (1930 г.) и перепечатанные в Москве в сборнике «А.П.Чехов в воспоминаниях современников» (1960 и 1986 гг.). Тем не менее спустя еще несколько лет Исаак Альтшуллер вернулся к работе над своими записками. Эту последнюю редакцию своих мемуаров он озаглавил «Еще о Чехове», и в год его смерти они увидели свет в книге IV «Нового журнала» в Нью-Йорке (1943 г.). В бывшем СССР они были напечатаны лишь однажды в сугубо научном издании («Литературное наследство», т. 68, 1960 г.) и практически неизвестны читателям.
Лео Яковлев
Исаак Альтшуллер
ЕЩЕ О ЧЕХОВЕ
Мне приходилось уже делиться отрывками своих воспоминаний о Чехове в печати, в последний раз в 1930 году, по случаю исполнившегося двадцатипятилетия со дня его смерти. Сестра Чехова, Мария Павловна, писала мне тогда: «Воспоминания о брате пишите обязательно; вы должны это сделать». Как единственный в сущности врач, наблюдавший в последние 5–6 лет (а раньше ведь он вообще не лечился) течение его болезни, как человек, имевший при этом возможность наблюдать многое, обычно от постороннего глаза скрытое, я и сам чувствовал, что на мне лежит долг рассказать об этой части моих воспоминаний, но тогда, в 1930 году, я по разным соображениям считал неудобным подробно на этом останавливаться. В настоящее время я хочу это сделать, изложить историю его болезни и ее связь с событиями последних лет его жизни. Позволю себе и здесь рассказать о начале нашего с ним знакомства, так как оно наложило известный отпечаток и на наши дальнейшие отношения.
В конце сентября 1898 года я, спасаясь от гнилой северной осени, приехал на короткое время в Ялту, которой раньше не знал. Здесь я познакомился с доктором С. Я. Елпатьевским, который только незадолго перед этим переселился окончательно из Нижнего Новгорода в Ялту, строил себе, как говорил Чехов, «с аппетитом» дачу и был влюблен в южный берег Крыма. Он очень красноречиво и настойчиво доказывал необходимость и мне покинуть север и в подкрепление своих доводов сообщил, что вот и Чехов приехал недавно и уже решил перекочевать сюда. И вот как-то, когда мы проходили через городской сад, Елпатьевский увидел на одной из скамеек Чехова, подошел к нему, познакомил нас, затем вскоре ушел, и мы остались вдвоем. Разговорились, и выяснилось, что мы в некотором роде товарищи по несчастью. У Чехова, как известно, туберкулез легких был, так сказать, официально констатирован весной 1897 года, и следующую осень и зиму он провел в Ницце. Поздней весной того же, 1897 года, заболел остро и я, продолжал работать, но осенью был в довольно скверном состоянии отвезен в Ментону. Значительно уже поправившись, я познакомился с наезжавшим в Ментону из Ниццы вице-консулом Юрасовым, питавшим большую слабость к литературе и литераторам, необыкновенно сердечным и милым старичком; и вот он меня все уговаривал переехать из скучной Ментоны в Ниццу, где имеется Pension russe «с настоящим русским самоваром и настоящей кулебякой», а главное — в этом пансионе проживает и необыкновенно интересный, веселый и прекрасный писатель А. П. Чехов. Было это очень соблазнительно, но не укладывалось в намеченный мною план лечения и занятий, и видеть Чехова тогда мне так и не пришлось. И вот теперь, оба опять спасаясь от северной осени, мы встретились. Выяснилось также, что у нас много общих приятелей и друзей среди земских, главным образом, московских врачей. Случилось так, что на следующий же день приехал в отпуск один из них, известный земский врач И.И. Орлов, и как-то вышло, что, ничем не занятые, стали мы втроем проводить значительную часть дня вместе. Осень в тот год выдалась исключительная даже для Крыма. Чехов был в прекрасном настроении, в каком никогда потом я его уже не видел. Ему было 38 лет; он тогда имел еще довольно бодрый вид и, несмотря на то, что ходил несколько сгорбившись, в общем представлял стройную фигуру. Только намечавшиеся складки у глаз и углов рта, порой утомленный взгляд и, главное, на наш врачебный глаз заметная одышка, особенно при небольших даже подъемах, обусловленная этой одышкой степенная медленная походка и предательский кашель говорили о наличии недуга. Тщательно избегал говорить о последнем только сам больной. Он тогда очень много рассказывал о своем детстве; вспоминал гимназические и студенческие годы, жизнь в Таганроге, особенно тепло говорил про покойного брата художника Николая. Рассказывал про начало своего писательства и как тогда, вначале, легко писалось: «Бывало стынешь на лестнице в купальне, рассказец и напишешь, а потом по дороге его в почтовый ящик опустишь». Рассказывал о встречах с разными писателями, о жизни в его усадьбе Мелихове и т. д. При этом воодушевлялся, лучистые глаза весело искрились, правый указательный палец беспрерывно расправлял правый ус, и рассказ часто прерывался его характерным смехом. Время от времени делалась пауза, чтобы сделать два-три глотательных движения для подавления позывов на кашель, так как кашлять и при нас не полагалось.
Приняв решение переселиться в Ялту окончательно, он приступил к постройке дачи на приобретенном участке. В значительной мере под влиянием Чехова придя, в конце концов, также к заключению о необходимости покинуть север, я снял в Ялте квартиру, и так как раньше конца года семья моя не могла переехать, то Чехов перебрался на время ко мне.
С первого же дня нашего знакомства я поддался его обаянию и крепко к нему привязался. Когда по приезде в Торжок для ликвидации своих дел я рассказывал о нем моим товарищам и друзьям, то они, смеясь, утверждали, что это у меня «курортное увлечение». Помню, я и сам вначале старался разобраться, не играет ли в этом увлечении роль некоторый гипноз от близкого общения с писателем, популярность которого тогда была уже велика и все возрастала, однако вскоре убедился, что обаяние его личности основано было исключительно на редких качествах его души и оригинального блестящего ума. И в последующие шесть лет, до самой его смерти, находясь в постоянном общении с ним, я ни разу не имел повода усомниться в правильности этого заключения.
Я имел возможность в разное время близко наблюдать отношение к Чехову многих тогдашних и уже известных и только начинающих писателей. Я уже в другом месте отметил совершенно исключительное, я бы сказал нежное отношение Л. Н. Толстого к Антону Павловичу, как ни к кому другому из писателей, притом не только как к художнику, но и как к человеку. Но и старый, хворый, сильно сдавший и раздражительный Станюкович, с нескрываемым пренебрежением и даже враждебностью относившийся к младшему поколению писателей; и оригинальный, красочный Мамин-Сибиряк, тоже очень критически относившийся к некоторым выдвинувшимся молодым «мелкопитающим миазмам», и Короленко, и народник, врач, писатель и публицист, деликатный, но очень строгий и принципиальный в вопросах общественных и моральных Елпатьевский, и только что из Н.-Новгорода в большой свет пустившийся и сразу вознесенный Горький; и Бунин; и жизнерадостный Потапенко, и только что появившийся и жадно упивавшийся новой жизнью Куприн; и железнодорожный инженер, очаровательный рассказчик и собеседник Гарин-Михайловский, и Чириков, и Скиталец, и Вересаев — все эти столь различные по духовному облику и по политическим тяготениям люди поддавались обаянию личности Чехова и как-то особенно почтительно и бережно держались по отношению к нему. Конечно, тут играли роль и его уже всеми признанный талант (хотя ведь и среди писателей профессиональная ревность — явление не редкое), и в известной степени его болезнь, но прежде всего это была невольная дань его моральному облику человека необыкновенно доброго, тонкого, чуткого, с грустью и незлобивым юмором, неотразимо к себе привлекавшего. Доброта его, желание быть чем-нибудь полезным, помочь в мелочах и в крупном были совершенно исключительны.