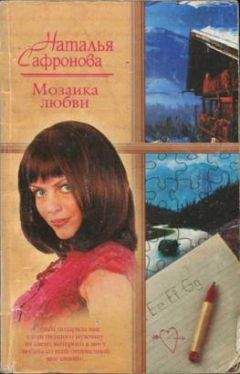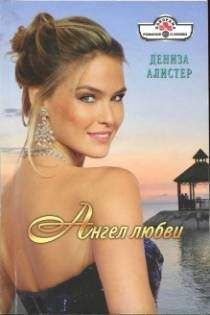Александр Коперник - О любви и боле
Тогда у тебя нет сил терпеть, и ты говоришь ей; ты говоришь, как ты восхищен, как тебе нравится какая-то ее деталька, как ты счастлив смотреть на нее и видеть ветер в ее волосах, слышать дыхание, слышать шелест листьев под ее сандалиями. Ты говоришь, что никого нет прекраснее, чем она, или что у нее невероятные пальцы, особенно мизинцы, когда она невзначай поправляет волосы. Ты говоришь, что она должна очень хорошо смотреться на капитанском мостике, за штурвалом, или что у нее взгляд цепкий, как у летчика-испытателя. Ты говоришь, что любишь идти за ней следом не потому, что хочешь ее напрягать, а потому, что сходишь с ума от того, как она слегка поворачивает ногу носком в бок, когда наступает своим остроносым сапожком в рыхлый снег. Ты говоришь, что удивляешься, как люди могут спокойно смотреть на кусочек живота, выглядывающий между блузкой и джинсами. Ты говоришь, что ее смех способен вернуть к жизни — столько в нем живительного тепла. Ты говоришь…
А она отвечает, кокетливо прищурив глаза: «Ой, такого комплимента мне еще не делали!»
И наступает тоска.
Спи, Август
А вот вам спич о любви, в самом неприкрытом гиде… ой… виде, разумеется, виде;прощенья просим у Ги!
Меня всегда забавляло отношение к любви у большинства людей. Оправданное, надо сказать, отношение; так относятся к работе массажиста. Чем не оправдание, раз такое есть?
Вот если чувство было неделю — то это не любовь. А если год — то любовь. Кто-то закладывает больше года. Кому-то достаточно 5-7 месяцев. Месяц... Ну, черт знает, да, нет… Но, вообще-то, если не твердое «да», то, очевидно, «нет». То есть, месяца тоже мало?
Ранжирование как с вредом алкоголя: до 18 лет — вредно, после 18 — сразу все хорошо, и даже полезно; и, главное, просветлению способствует, от стресса лечит, общению помогает, и в горе и в радости поддерживает. Чудеса, да и только!
Кстати, по одной из статистик «британских ученых» (да-да, не хмурься, Август) страсть длится в среднем 11 месяцев. Любовь без страсти? Почему бы нет. Так и проверяется, настоящая ли. Настоящая любовь требует жертв!
В любом случае, эти 11 месяцев — шутка, анекдот, хоть и явно с долей правды. А еще мне нравится, что 11 месяцев — обычный срок аренды жилья. Символично.
Я не согласен с этими цифрами. Год ничем не лучше, чем минута, учитывая, что бывает и 70 лет. Я считаю, что даже если чувство длится несколько секунд — оно все равно оно, и оно искреннее. И оно почти стопроцентно пройдет рано или поздно.
Тут, я думаю, со мной на словах многие согласятся, как будто сами считают так же. Согласятся, но все равно — когда дело коснется их собственной «рубахи», будут использовать тот же способ определения любви.
И не только обвинят в ее отсутствии тех, кто «разлюбил раньше времени»; но еще и сомневаться в себе — а было ли, поймавшись на потере чувств «вдруг», «не в срок».
Я люблю людей.
И в этом можно не сомневаться, ибо моя к ним любовь длится уже явно больше года.
…В одном северном городе жил мальчик по имени Ги. Он знал все закоулки в городе, и умел без помощи рук пройти от центральной площади до пирса, находящегося на самой границе, в самом отдаленном районе. Другие люди не могли без рук; они тыкали брусчатку тростями, и пытались делать вид, что все у них под контролем. Но никто не видел их вида, а значит, и верить было не во что — и некому.
Однажды Ги проснулся утром и понял, что прозрел. Чувство оказалось новым, незнакомым, ведь Ги никогда не видел. И никто никогда не видел, хотя мифы про зрение и прозрение все слышали в детстве.
А через пару дней Ги дошел до пирса, повесил на шею тяжелый камень и утопился.
Когда ты, наконец, прозреешь, ты поймешь — почему. Хотя, скорее всего, этого не будет; не бойся. Спи. Укройся своей гранитной плитой. Спи, Август.
Плачущие ангелы
Чужая жизнь похожа на стеклянную игрушку. Смотришь на нее и думаешь – красиво. А реальность такова, что в ней тоже – и трещины свои, и помутнения. И она идет, черт побери, безостановочно. Все время. Чужая жизнь продолжается, и не застывает, когда ты ее не видишь.
А потом, однажды наткнувшись на какие-то совсем новые упоминания чужой, но важной тебе жизни, впадаешь в состояние, схожее с созерцанием древней, старше нашей эры, статуи Афины.
Ты видишь, как человек изменился; его изменения тем страшнее, чем сильнее они отражают огромную пропасть между тем, чем являешься ты, и тем, чем ты являлся раньше. Они показывают тебе не то, что изменились другие, а первым делом то, что меняешься ты сам. Они были какими-то важными друзьями, может, любовниками, коллегами, собутыльниками – а теперь просто потресканные допотопные статуи. Красивые такие, и в момент твоего созерцания их все сжимается в какой-то невероятный миг; кажется, что ты – школьник, и время для тебя имеет совсем другое значение, нежели для них. Твое время идет медленно, с каким-то особым, жестоким цинизмом; а их время как будто уже и прошло вовсе.
И это правда. Для тебя оно – прошло. И теперь они – просто статуи с пустыми глазами, сделанные несколько тысячелетий назад каким-то забытым гением. Такие красивые, любимые, теплые от солнца и пыли, бессмысленные, неподвижные статуи.
Внутреннее порно
Я хожу по улице и рассматриваю девиц. Не буду кривить душой: при всех их прелестях больше всего меня занимает то самое невероятное место, где заканчивается живот и начинаются ноги. Это такое место, которое со страшной силой притягивает в воображении мои пальцы. Но я держусь, не пережива…
Я хожу, смотрю на них, и пытаюсь представить те приборы, которые имеют доступ в эти апартаменты. Не то, чтобы я думал о членах, нет, я думаю, скорее, о том, куда они помещаются. Я пытаюсь представить, глядя на лица незнакомых юных дев, насколько сильно намокают их разъемы при возбуждении; какие у них мимические реакции, когда их внезапно пронзает снизу вверх такой ожидаемой болью; что происходит с их глазами, ртами, какие звуки они издают. Как дрожат их руки, напрягаются животы, как раздуваются ноздри и куда они при этом глядят, что изучают. Видят ли они что-нибудь? Есть ли у них синяки на внутренней стороне бедра?
Я смотрю на их носы и щеки, их бедра и животы, и пытаюсь вычислить — достигают ли они когда-нибудь оргазма. И мне почему-то кажется, что почти ни одна из изучаемых мной персон не доходит до крайней точки никогда. Я смотрю на их губы и пытаюсь вообразить, нравится ли им боль, или они сами любят ее доставлять; какова температура у них внутри, какова консистенция соли в их соках; кусаются ли они в порыве страсти, ломали ли когда-нибудь от напряжения ногти. Мне крайне любопытно, как бы себя вела та или иная наблюдаемая особа, занимаясь сексом за мусорными баками — молчала бы, шипела бы сквозь зубы, или, может, вопила бы в голос, наплевав на всяческие приличия? И вообще — смогла бы перебороть брезгливость и сунуться за баки с такой целью?
Иногда я испытываю зависть к воображаемому самцу, «познающему» время от времени ту или иную особь. Это не ревнивая зависть, граничащая с ненавистью; скорее, деловая такая, дежурная зависть, как зависть к сидящему пассажиру в электричке из Питера в Выборг — ты стоишь, у тебя предательски ноет пятка, а он сидит и дремлет. Я представляю, как она, вышеозначенная особь, впервые ехала в гости к вышеозначенному самцу, четко понимая последствия своей поездки, и тщательно вырабатывала вид, будто не ожидает никакого интима. И как она потом лежит бедром на холодном мокром пятне, и рассказывает, дергая за волосы на его груди или поглаживая промежность, что он ее удивил, хотя она и сама этого хотела, причем давно. Интересно, она правда давно хотела, или льстит его самолюбию? Думаю, сколько-то хотела. Абстрактно, как и половину других в своем окружении…
Как гулко стучится город в окно. Его злость и бесформенность не дают покоя, они отвлекают от радости и страдания. Чем больше город, тем меньше человек. Чем меньше человек, тем теснее его эго внутри трескучей оболочки. Больные виски не умеют жить без сжимающих их ладоней, даже если и рук-то нет. Иногда становится так мучительно больно от понимания исчезнувших эмоций, что нет ничего, кроме огромной железной бабочки с иззубренными кромками крыльев, раздирающей мягкие, как желе, лобные доли. Бабочки появляются из куколок, куколки — из гусениц. Гусеницы — часть движущего механизма танка. Я так ненавижу тебя порой, что эта ненависть рвет мое небо, я начинаю харкать кровью и плакать, избивать себя и грызть вены на руках. Я так тебя иногда ненавижу, что чистота и благородность моей ненависти сравнима с золотом высшей пробы.
Я знаю, когда человек начинает откровенничать, он становится колючим, и мало кто относится после этого к нему позитивно. Никому не надо знать, кто возбуждает мое животное, а кто — мое ничто. Нет, нет. Я не откровенничал сейчас. Это все ни к чему! Все вышесказанное от первого до последнего слова — вранье. Я никогда об этом не думаю. Я никогда.