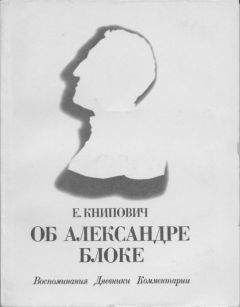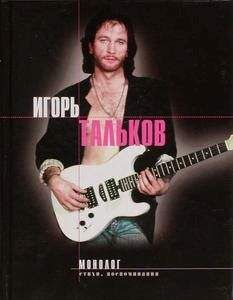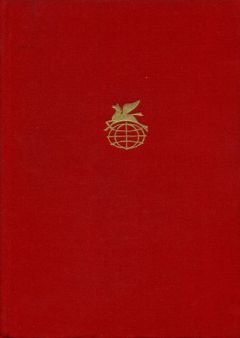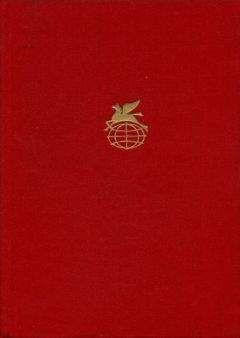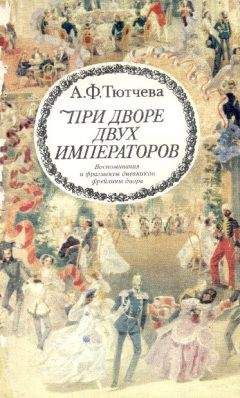Владимир Костицын - «Мое утраченное счастье…» Воспоминания, дневники
Из Трамота ты возвращалась к четырем – половине пятого, как и я – из Книжного центра. Мы быстро стряпали (на железной печке) и ели. Что стряпали? Еды было не очень много, но все-таки то ты, то я приносили выдачи продуктами, иногда – курьезные. Например, один раз курьерша из Книжного центра притаскивает мою долю конины: мешок звенит, – мы открываем его и находим копыта с подковами. Картошка всегда бывала мороженная; мы клали ее в холодную воду, и очень скоро на ней выступал слой льда; отколупнув его от картошки, можно было варить ее и есть без отвращения. Просо иногда выдавали не ободранное, и варить из него кашу было невозможно, но мы выменивали его на яйца у одной женщины, державшей птицу. Хлеб выдавался совершенно несъедобный, но из имевшейся у нас муки одна женщина выпекала для нас очень хороший заварной хлеб, правда, с некоторой примесью картошки. Приносить его домой приходилось с оглядкой, так как частная выпечка хлеба была запрещена. В качестве фруктов мы имели яблоки, полученные из университетского кооператива. За этими получениями мы отправлялись вместе, с санками, и на обратном пути я вез, а ты направляла сзади и подталкивала их, что было необходимо: везде улицы были в совершенно разбитом состоянии.
Я помню, как будто это было вчера, твою дорогую храбрую фигурку в меховом колпачке, закрывавшем уши, и в шубке, весьма тебе шедшей. Ты бодро и весело покрикивала, я бодро и весело вез, и дома, садясь за стол, мы никогда не забывали помянуть тетю Маню. Питание наше стало совсем хорошо, когда стал выдаваться академический паек. История этого пайка заслуживает внимания.
Не проходило заседания ГУС, чтобы кто-нибудь (чаще всего это бывал я) не начинал говорить об ужасном положении ученых, которые получают жалованье, недостаточное, чтобы заплатить раз извозчику от Мясницкой до университета, и не имеют выдач продуктов. «Вы, Владимир Александрович, – отвечал мне с раздражением Покровский, – с вашим esprit caustique[308] всегда видите все в черном свете. Конечно, мы очень виноваты перед профессорами». Наконец, в феврале месяце он заговорил сам: «Чего не могли добиться мы, добился Максим Горький. Совнарком постановил отпускать ежемесячно триста академических пайков». – «На кого? На Москву?». – «Нет, на всю республику». – «Помилуйте, это невозможно, один Московский университет…» – «Что же делать? Вероятно, потом удастся расширить дотацию, а пока надо распределить эти триста. Займитесь этим, товарищи. Владимир Александрович возьмет математиков, Аркадий Климентьевич – физиков, Вартан Тигранович – астрономов. Гуманитарии возьмут историков, филологов, юристов». – «А литература? Искусство?» – «Декретом не предусмотрено». – «Сколько же дается на математику?» – «Вот вам постановление коллегии». – «Но позвольте, разве возможно удовлетворить математиков двадцатью пайками?» – «А если вы находите невозможным, так мы сделаем это сами. Только не воображайте, что сами вы останетесь без пайка. Членам ГУС пайки уже отпущены, и нарекания на вас, т. Костицын, все равно будут».
Принесли списки. «Товарищ Костицын, так что же?» – «Нет, я не могу взять на себя ответственность». – «Ну, так ее возьмем мы. Кто тут по списку: профессор Егоров – пайка не давать, профессор Лузин – пайка не давать…» – «Позвольте, Михаил Николаевич, это же – скандал». – «Ага, вас пробрало. Садитесь и распределяйте». Я сел и распределил. Так же сделали и остальные.
К заседанию математической предметной комиссии семь московских математиков уже получили повестки о пайках. Председатель Б. К. Млодзеевский обратился ко мне за разъяснениями в весьма суровом тоне: «Вы, член Государственного ученого совета, должны знать, что все это значит. Семь пайков… Но ведь нас гораздо больше семи. Кто виноват в этом безобразии? Кто выбрал эти семь имен?» – «Я выбрал эти семь имен». – «Ах, значит, это вы взяли на себя такую огромную ответственность? Удивляюсь вашей смелости». – «Смелость моя, действительно, очень велика, но иного выхода не было. А если бы вам, Борис Корнелиевич, предложили этот отбор?» – «Я бы отказался». – «И тогда пайки уплыли бы в другой город. Подумайте немного: ведь это – начало, пробита первая брешь; я уверен, что очень скоро все мы будем иметь пайки. Вы предпочли бы умыть руки и оставить всех голодными; я предпочел взять на себя ответственность, получить от вас жестокий разнос, но, по крайней мере, мы уже имеем кое-что и будем иметь еще больше». Он замолк, остальные также ничего не сказали; потом каждый по отдельности просил меня о защите своих интересов. Действительно, через месяц число пайков было расширено до тысячи, а еще через месяц все научные работники, и даже с семьями, были обеспечены продовольствием.
Я очень хорошо помню, как мы с тобой отправились с санками получать первый паек, который выдавался в шести различных местах города. Мы получили хороший кус мяса, несколько кило сахара, два кило масла – настоящего хорошего сливочного масла, муки, меда, шоколада, сыра и постного масла. Привезя домой все эти сокровища, мы позвали всех домашних полюбоваться, а Ивана Григорьевича с детьми позвали на обед. Ты с твоей добротой и незлобивостью хотела звать и тетку с семьей, но я решительно воспротивился.
После обеда я обыкновенно быстро уходил в университет (все курсы были вечерние) или на заседания или по деловым визитам и возвращался очень поздно. Перемещения все имели место пешком, и иногда за день я выхаживал 25–30 километров; к тому же я имел глупость взять группу в Институте путей сообщения и вел курс математики для физиков и натуралистов в университете Шанявского. Легко себе представить, в каком усталом виде я возвращался домой, и когда ты, моя родная, бывала больна, то приходилось заниматься еще и нашими хозяйственными делами. Кроме меня, о тебе никто не заботился.[309]
Очень скоро обнаружилось, что мой единственный костюм приходит в ветхость. Пока у меня оставалась моя военная шинель, я мог читать в ней лекцию, ссылаясь на холод в аудитории. Но была объявлена мобилизация шинелей, и мне заменили ее довольно короткой полукурткой-полупальто, из-под которого трагическое состояние брюк бросалось в глаза. Я, памятуя, что Михаил Николаевич – бывший председатель Моссовета, обратился к нему, и он очень любезно дал мне записку, прибавив: «Пойдите к товарищу такому-то; он многим мне обязан и все сразу сделает». Это было в пятницу. В субботу я повидал в Моссовете указанного товарища, который хмуро взглянул на меня и сказал: «Что же, Михаил Николаевич воображает, что мы обязаны одевать весь Наркомпрос?», но сделал надпись: «Удовлетворить» и направил меня в отдел распределения на Ильинку. Там мне сказали, что нужно придти в понедельник в 9 ч. утра.
Явившись в понедельник, становлюсь в огромный хвост к комендатуре, чтобы получить пропуск внутрь здания на следующий день. Получаю пропуск в час дня; ухожу и возвращаюсь во вторник утром. Стою в хвосте до 12 ч., чтобы попасть внутрь (пускают маленькими группами). Вот я и внутри: становлюсь в хвост к справочному бюро, попадаю туда к часу дня; мне пишут на бумажке: окошко № 17. Становлюсь в хвост, попадаю к названному окошку к 13 ч. 40 м.; там смотрят бумажку и говорят: «Не сюда. Вам нужно окошко № 34». Опять становлюсь в хвост, попадаю к названному окошку к 14 ч. 30 м.; там смотрят и говорят: «Не сюда. Вам нужно окошко № 19. Только сейчас уже поздно; приходите завтра». – «Помилуйте, – говорю я, – дайте мне хоть пропуск на завтра без очереди». – «Не дело, товарищ; мы – против привилегий, а впрочем…»
На следующий день жду сорок минут, чтобы пройти без очереди, и становлюсь в хвост к окошку № 19. Попадаю к 11 ч. как будто туда, потому что никуда не посылают, а берут бумажку на заключение коллегии; придти за резолюцией надо в пятницу; получаю пропуск без очереди. Прихожу в пятницу: с тем же церемониалом меня отсылают в окошко № 37; там надменная девица объявляет мне резолюцию: «Объяснить причину такой нужды в брюках». – «Вам нужна причина? Да?» – «Вы грамотны, товарищ?» – «Вот она». Я поднимаю пальто и при общем смехе поворачиваюсь кругом, чтобы лучше были видны мои лохмотья. «Вам достаточно?» – «Нет, надо изложить это на бумаге». – «Ну уж нет, с меня достаточно». Вечером на заседании ГУС я передаю Михаилу Николаевичу его записку, исчерченную карандашами, номерами, покрытую разноцветными штемпелями, с объяснительным документом, где излагаю все мои мытарства. Крайне недовольный, он берет и говорит: «Вот вы всегда так – найдете что-нибудь неблагоприятное для нашего советского аппарата».
Вернувшись вечером домой, я рассказываю тебе все, и ты отвечаешь: «Дурачок, давай кончим эту историю тем, с чего следовало ее начать». Ты находишь в своем гардеробе старое темно-синее пальто, зовешь Марью Степановну – портниху, жену нашего университетского чучельщика-натуралиста, живущего в доме. Та несколько сомневается, сумеет ли сшить на мужчину, но, получив муки и сахара, соглашается, и через два дня я – с брюками; они довольно тонки, но не прозрачны, и я могу снять пальто, не стесняясь. Правда, кой-кому это не нравится, и в течение нескольких лет другая твоя тетушка – Розалия Григорьевна, когда хочет нас уязвить, кричит через стену: «Этот человек, который пришел в наш дом без штанов и живет нашим добром…». И далее – через несколько минут: «У него настолько нет понимания и воспитания, чтобы относиться к старой тетке своей жены с почтением и симпатией». Ни меня, ни тебя это уже не трогает.