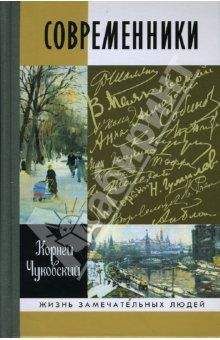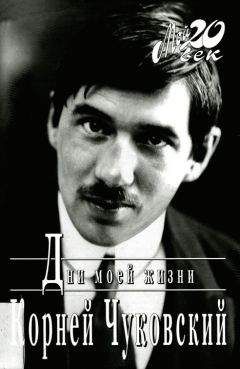Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды
Даже кит
Ночью спит!
В эту секунду вся его угрюмость пропала, и я увидел горячую синеву его глаз. Взглянув на меня, он опять насупился и мрачно зашагал по ступеням.
Позже, когда я познакомился с ним, я заметил, что у него на лице чаще всего бывают эти два выражения.
Одно — хмурое, тоскливо-враждебное. В такие минуты казалось, что на этом лице невозможна улыбка, что там и нет такого материала, из которого делаются улыбки.
И другое выражение, всегда внезапное, всегда неожиданное: празднично-застенчиво-умиленно-влюбленное. То есть та самая улыбка, которая за секунду до этого казалась немыслимой.
Я долго не мог привыкнуть к этим внезапным чередованиям любви и враждебности. Помню, в 1919 или 1920 году я слушал в Аничковом дворце его лекцию о Льве Толстом. Осудительно и жестко говорил он об ошибках Толстого, и чувствовалось, что он никогда не уступит Толстому ни вершка своей
118
горьковской правды. И голос у него был недобрый, глухой, и лицо тоскливо-неприязненное. Но вот он заговорил о Толстом как о «звучном колоколе мира сего», и на лице его появилась такая улыбка влюбленности, какай редко бывает на человеческих лицах. А когда он дошел до упоминания о смерти Толстого, оказалось, что он не может произнести этих двух слов: «Толстой умер»,— беззвучно шевелит губами и плачет. Так огромна была нежность к Толстому, охватившая его в ту минуту. Слушатели — несколько сот человек — сочувственно и понимающе молчали. А он так и не выговорил этих слов: покинул кафедру и ушел в артистическую. Я бросился к нему и увидел, что он стоит у окна и, теребя папиросу, сиротливо плачет о Льве Николаевиче. Через минуту он вернулся на кафедру и хмуро продолжал свое чтение.
Впоследствии я заметил, что внезапные приливы влюбленности бывают у Горького чаще всего, когда говорит он о детях, о замечательных людях и книгах.
Перебирая книги в своем кабинете на Кронверкском проспекте (в Ленинграде), он каким-то особенным, почтительным и ласкающим жестом брал с полок то ту, то другую книгу и говорил о ней певуче и страстно, гладя ее, как живую: о Кирше Данилове (которого он знал наизусть), о «Плачах» Барсова, о тимирязевской «Жизни растений», о «Русской истории» Ключевского, о «Калевале», о «Мадам Бовари».
К нам, сочинителям книг, он относился с почти невероятным участием, готов был сотрудничать с каждым из нас, делать за нас черную работу, отдавать нам десятки часов своего рабочего времени, и, если писание наше не клеилось, мы знали: есть в СССР переутомленный, тяжко больной человек, который охотно и весело поможет не только советами, но и трудом.
Я пользовался его помощью множество раз, эксплуатируя, как и другие писатели, его кровную заинтересованность в повышении качества нашей словесности.
В последний раз я обратился к нему за помощью в год его смерти и даже не удивился, когда через несколько дней получил от него большое письмо, где он предлагает мне и советы, и помощь, и деньги.
Дело шло об одной моей книге, которую я сочинил еще в двадцатых годах. Книга так и не увидела света — фантастическая повесть о том, как люди в СССР научились управлять погодой. Книга оказалась неудачной. По прошествии многих лет я затеял написать ее по-новому. Но как? В каком стиле? Для какого читателя? Прозой или стихами?
И я обратился за советом к Алексею Максимовичу.
Он тотчас же прислал мне такое письмо:
119
«Я думаю, дорогой Корней Иванович, что повесть на тему, избранную вами, следует писать непременно прозой и для ребят среднего возраста. Малышам эта тема не будет понятна... Подумайте: вам придется говорить о льдах Арктики, о лесных массивах и тундрах севера, о «вечной мерзлоте» и всякой всячине этого рода — в наше время, когда гипотетическое мышление становится все более обычным и «безумным». Вон, капитан Гернет предлагает уничтожить Гренландский ледяной лишай и возвратить Сибирь с Канадой в миоценовый период, а еще некто затевает утилизировать вращение Земли вокруг ее оси, а третий ищет родоначальницу растительной и живой клетки. И всего этого вы должны «коснуться».
Я не «запугиваю» вас: мне затея ваша горячо нравится. И я думаю, что вы осуществите ее. Как надо ставить дело практически и чем я могу быть полезен вам? Мог бы достать вам денег в каком угодно размере для спокойной, непрерывной работы год, два.
Указать вам метеорологов — не могу, никого не знаю. Но полагаю, что вам не худо будет побеседовать с гелиотехниками — в Слуцке, Самарканде, с полярниками. А по вопросу о нашей атмосфере вы найдете, пожалуй, интереснейшие намеки в «Геохимии» Вернадского. Вообще вам потребуются химики-электрики, они в лучшем качестве у нас в Ленинграде, около Иоффе — Дорфман, кажется, с «фантазией». Сия последняя будет вам великой помощницей. Сердечно желаю успеха.
А. Пешков».
В этом письме характерна раньше всего страстная заинтересованность Горького в том, чтобы задуманная советским писателем книга была непременно написана, и притом с максимальной удачей.
Больной, перегруженный непосильным трудом, он тратит свое время, которого у него осталось так мало, на внимательную разработку задуманного мною сюжета, на подыскание для меня материалов. И, не ограничиваясь советами, щедро предлагает мне деньги «в каком угодно количестве».
Это письмо не исключение, а правило. Такова была ежедневная практика Горького. Мы, писатели, большие и маленькие, успели за долгие годы привыкнуть к тому, что вот есть в нашей стране человек, который каждую нашу строку принимает к сердцу, как свое личное дело.
У него была веселая манера — дарить писателям книги. Чуть узнает, что вы работаете над какой-нибудь темой, принесет вам на ближайшее заседание в огромном портфеле из своей библиотеки те книги, которые могут пригодиться для ва-
120
шей работы, и, не говоря ни слова, мимоходом положит перед вами на стол.
Мне, например, он подарил несколько книг по Некрасову, в том числе заграничное издание «Кому на Руси жить хорошо», книгу француза Базальжетта об Уолте Уитмене, несколько томов «Современника». Акиму Волынскому постоянно приносил какие-то итальянские книги, и было похоже, что он, мастер, раздает подмастерьям рубанки и стамески для работы. Высшая была у него похвала о каком-нибудь писателе — работник. Самое это слово он произносил веско и радостно, словно поднимал какую-то приятную тяжесть: «ра-ботник».
В первые годы революции мы, петроградские писатели, встречались с ним особенно часто. Он взвалил на себя все наши нужды, и когда у нас рождался ребенок, он выхлопатывал для новорожденного соску; когда мы заболевали тифом, он хлопотал, чтобы нас поместили в больницу; когда мы выражали желание ехать на дачу, он писал в разные учреждения письма, чтобы нам предоставили Сестрорецкий курорт.
Я думаю, если бы во всех учреждениях собрать все письма, в которых Горький ходатайствовал в ту пору о русских писателях, получилось бы по крайней мере томов шесть его прозы, потому что он тогда не писал ни романов, ни повестей, ни рассказов, а только эти бесконечные письма.
Помню, посетила его поэтесса Наталья Грушко, и, когда она ушла, он сказал:
— Черт их знает! Нет ни дров, ни света, ни хлеба, а они как ни в чем не бывало — извольте!
Оказывается, поэтесса на днях родила, и ей необходимо молоко.
— Нечего делать, похлопотал о ней, и вот вчера она получает бумагу: «Разрешается молочнице такой-то возить молоко жене Максима Горького (такой-то)».
И указана фамилия поэтессы.
Однажды я сказал ему, что ему причитается на Мурманской железной дороге паек — гонорар за лекцию, прочитанную им в тамошнем клубе. Он спросил, нельзя ли, чтобы этот паек получила вместо него одна переводчица, очень тогда голодавшая.
— Как же ее записать?
— Запишите: моя сестра.
Таких «жен» и «сестер» у него в ту пору было множество.
— Какая у Горького большая семья!— жаловался один продовольственник, к которому Горький всегда обращался с записками о хлебе, крупе, селедках для писательской братии.
121
И нужно прямо сказать, что, если мы пережили те бесхлебные, тифозные годы, этим мы в значительной мере обязаны нашему «родству» с Максимом Горьким, для которого все мы, большие и маленькие, стали тогда как родная семья.
В сентябре 1918 года Горький основал в Петрограде издательство «Всемирная литература». Руководить этим издательством должна была «ученая коллегия экспертов», первоначально из девяти человек. В качестве «специалиста по англо-американской словесности» вошел в эту коллегию и я. Сперва редакция наша ютилась в тесноватом помещении на Невском (№64), невдалеке от Аничкова моста (бывшая редакция газеты «Новая жизнь»), но к зиме переехала в великолепный особняк на Моховой (№36), с мраморной лестницей, с просторными и светлыми комнатами. Мы собирались по вторникам и пятницам вокруг длинного стола, покрытого красным сукном, и под председательством Алексея Максимовича тщательно обсуждали те книги, которые надлежало выпустить в ближайшие годы. Горького захватила широкая мысль: дать новому, советскому читателю самые лучшие книги, какие написаны на нашей планете самыми лучшими авторами, чтобы этот новый читатель мог изучить мировую словесность по лучшим переводным образцам. К зиме наша коллегия разрослась, и мы с удесятеренными силами принялись за работу, чтобы возможно скорее поставить на рельсы многосложное дело.