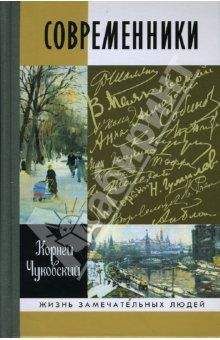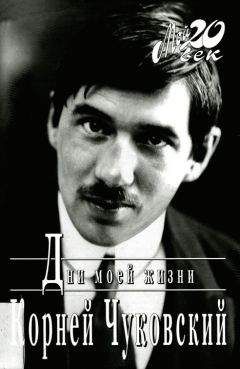Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды
— Эти «сеансы» повторял я не раз. Хотелось покрепче запомнить каждую черточку на вашем лице,— закончил свое признание Ре-Ми.
— Вот потому-то,— сказал Короленко,— мне и запомнилась каждая черточка на вашем лице. Только (извините, пожалуйста), заметив, что вы всякий раз норовите устроиться поближе ко мне и потом всю дорогу не спускаете с меня своих въедливых глаз, я подумал (только не сердитесь, пожалуйста), что у вас другая профессия.
В то время вагоны буквально кишели шпиками, и мудрено ли, что Владимир Галактионович принял за одного из них молодого художника, пожиравшего его глазами с такой жадностью?
В одном из номеров «Сатирикона» можно отыскать тот портрет Короленко, который исполнен Ре-Ми на основе вагонных «сеансов». Это шарж не только не обидный, но даже, пожалуй, почтительный. Помню, он понравился И. Е. Репину и артистизмом исполнения и сходством. Дочь Короленко Софья Владимировна говорила мне (через несколько лет), что Владимир Галактионович тоже очень одобрил этот шарж.
IX
В 1911 году Владимир Галактионович заехал ко мне в Куоккалу ранней весной — 1 апреля. Борода у него стала рыжеватой от каких-то лекарственных мазей, слышал он гораздо хуже, чем в прошлом году, но его обветренные крепкие щеки показались мне гораздо свежее. Приехал он со станции в санях, вместе с Татьяной Александровной — поискать для Анненских в Куоккале дачу на лето. По дороге сани потерпели аварию: налетели с разбегу на тумбу. Остановив их у нашей калитки, финн-извозчик принялся хлопотливо возиться с поло-
110
манным полозом. Владимир Галактионович взял у меня гвозди, топор и бечевку и стал искусно ремонтировать полоз, словно это было его специальностью. Во всех его быстрых и мастеровитых ухватках была какая-то крестьянская сноровка, и сам он сделался похож на крестьянина.
Мы всей семьей вышли из дому на блестевшую весенними лужами улицу — полюбоваться его спорой работой.
Увидев детей (моих и соседских), тесно обступивших его, он достал из кулька и дал каждому из них по апельсину.
Вообще в тот день он был как-то особенно словоохотлив, добродушен и весел. Дачу удалось снять очень скоро,— кажется, прежнюю дачу,— и с наступлением лета я опять мог возобновить свою дружбу с Шурой, Соней, Володей и Таней.
Отец этой четверки детей был известный критик Богданович, приятель Короленко по Нижнему Новгороду. У него было редкое имя — Ангел: Ангел Иванович. Поэтому Короленко называл его детей: «ангелята». Однажды, сидя в лодке и собираясь отплыть, я увидел, что Владимир Галактионович гуляет с «ангелятами» над Финским заливом и — как это часто бывало — тешит их своим дивным искусством забрасывать в море прибрежные камушки так, чтобы те прыгали по воде, как лягушки. Но вот «ангелят» увели домой по какому-то делу (кажется, пить молоко), а Владимира Галактионовича я пригласил к себе в лодку. В море нас встретили мелкие, но сильные волны. Ветер весело накинулся на люстриновый пиджак Короленко, заплясал в его кудрях и бороде, а сверкающий под солнцем Кронштадский собор запрыгал то вверх, то вниз, и как-то само собою вышло, что я, радуясь солнцу и ветру, неожиданно для себя самого стал громко читать нараспев стихи моих любимых поэтов. Среди них замечательную балладу Шевченко:
У моєї Катсрини
Хата на помостi —
после нее куски из «Неофитов», из гениальной «Mapiї», потом перешел на Некрасова — и не заметил, что нас относит все дальше на север и что Короленко ухватил какой-то обломок весла и, умело орудуя им, сильными руками направляет нашу лодку прямо к берегу, где был наш причал. Таким он и запомнился мне: ладный, ухватистый, крепкий — на морском просторе, с открытой ветрам головой.
О прочитанных мною стихах он тогда не сказал ничего, но через несколько дней неожиданно вспомнил о них, и, как это ни странно, попрекнул меня ими.
Это было вечером; мы возвращались со станции и присели отдохнуть на полпути у колодца. Зашел почему-то разговор обо
111
мне, и Короленко сказал без обиняков, напрямик, что я иду по неверной литературной дороге, отдавая все свои силы газетным статьям-однодневкам. Что я пишу слишком звонко, задиристо, с «бубенцами и блестками». Что многие мои парадоксы производят впечатление фейерверков: «Но ведь фейерверк взовьется и потухнет, и кто же варит себе пищу на фейерверках!»
— Добро бы вы были записной фельетонщик. Тогда и разговаривать не о чем. Но вот вы любите Некрасова, Шевченко, а между тем...
Может быть,— продолжал он,— мой совет покажется вам тривиальным, но другого пути у вас нет: если вы хотите сделаться серьезным писателем, вы должны взвалить на себя какой-нибудь длительный, сосредоточенный, вдумчивый труд, посвятить всего себя единой теме, которая была бы насущно нужна широчайшему кругу людей.
Говорил он не теми словами, которые я здесь привожу по памяти — полвека спустя,— но смысл его речи был такой.
Так как все, что он говорил, я давно уже чувствовал сам, я разволновался и долго не находил слов для ответа.
Он же глядел на меня выжидательно. Но через несколько минут, угадав, что отвечать мешает мне взволнованность, вновь заговорил, на этот раз мягче и дружественнее. Кончилось тем, что я тут же, у колодца, поведал ему все мои писательские замыслы, из коих он одобрил лишь один — посвятить себя изучению Некрасова (который в ту пору был совсем не изучен): исследовать его эпоху, его жизнь, его мастерство и во что бы то ни стало восстановить те пробоины, которыми с давних времен исковеркала произведения поэта цензура.
Эта тема пришлась ему по сердцу, и его поощрительные слова так распалили меня, что мне захотелось сейчас же, не теряя минуты, бежать к себе, к своей старой чернильнице, чтобы, не дожидаясь рассвета, взяться за работу, для которой, увы, у меня не было ни нужных материалов, ни навыков.
Почему-то впоследствии, встречаясь со мной, Короленко никогда не вспоминал о нашем ночном разговоре, и я, из понятной застенчивости, так и не решился сказать ему, что этот «разговор у колодца» я считаю одним из важнейших событий всей своей писательской жизни.
X
В 1912 году Владимир Галактионович жил в Питере, и я заходил к нему изредка. Особенно запомнилась мне встреча с ним 15 мая. Никогда я не видел его таким переутомленным,
112
изнервленным. Два его ближайших сотрудника по журналу были арестованы и сидели в тюрьме, а больной Анненский уехал за границу лечиться, так что вся работа свалилась на плечи Владимира Галактионовича почти целиком. За напечатание в журнале «крамольных» статей его как редактора незадолго до этого несколько раз привлекали к суду, и в ближайшие дни предстояло еще три или четыре процесса, грозивших ему заключением в крепости.
Болезнь Анненского страшно волновала его; перед тем как Николая Федоровича увезли за границу, Короленко ухаживал за ним по ночам: расстилал свой тюфячок на полу у кровати больного, чтобы вовремя подать ему лекарство («Кто ни пройдет — наступит»).
К тому же он должен был выкраивать время, чтобы помогать и советом и делом Татьяне Александровне, которая чуть ли не в этом году начала редактировать какой-то еженедельный журнальчик. Для ее журнальчика Короленко (я хорошо это помню) собственноручно начертил географическую карту «голодающих местностей» и отдал этой карте немало часов. Кроме того, написал для того же издания три очерка на тему о голоде (весь номер так и назывался: «голодный»).
Чтение чужих рукописей — порой чрезвычайно обширных — тоже было его ежедневным занятием, равно как и переписка с обидчивыми и зачастую бездарными авторами этих увесистых опусов.
Не мудрено, что он чувствовал изнеможение, усталость. И все же, когда подали чай, попытался пошутить, как бывало:
— Хотите, Корней Иванович, знать верное средство от бессонницы? Поезжайте на велосипеде и сломайте ногу. Мне помогло: я сломал себе ногу, уложили в кровать, и бессонница мало-помалу прошла.
Но не успел он допить свою чашку, как зазвонил телефон. Телефон был в прихожей. Короленко шагнул к нему — грудью вперед. Оказалось, какая-то женщина получила увечье, работая за фабричным станком. Она подала в суд, и ей (должно быть, увечье было достаточно тяжкое) присудили шестьсот рублей. Но выступавший в суде адвокат содрал с нее четыреста рублей гонорара.
Короленко немедленно начал звонить в три или четыре инстанции — и к адвокату Грузенбергу и к какому-то другому адвокату.
— И так каждый день! — сказала мне Татьяна Александровна.
«Создалась,— справедливо заметил он в позднейшем пись-
113
ме,— такая традиция: что бы ни случилось, беги к Коро-ленку!» 1
Эта «традиция» больно отзывалась на нем, но он и не думал положить ей предел.