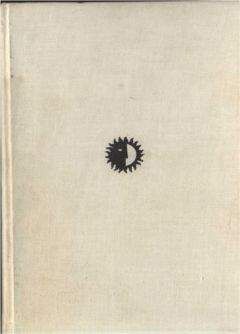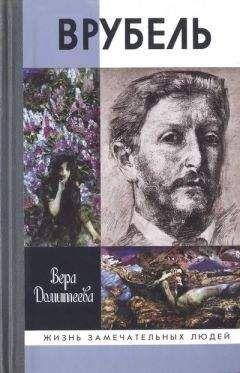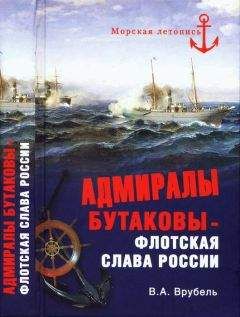Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
Дальше было:
…дальним лаем
Тот фонарь другой фонарь
Вроде бы ничего существенного, но почему-то в том виде стихи несли на себе отпечаток общей тупости поэзии тех времен, даже не хочется сказать «советской», хотя чисто технически можно так сказать. Здесь не в этом дело. Меня окружала тогда поэзия советской выработки.
Пусть мое движение искусственное, пусть полупродуктивное, но оно точно отбрасывает эту липкую гадость, может, стихи вылезают оттуда неуклюже, может, еще не отряхнулись, но они все-таки вылезли, и они сами по себе – несколько слов, которые живут и могут жить.
Это было осенью 57-го, я тогда свалился с вирусным гриппом на даче в Малаховке, никуда, естественно, не ходил, лежал в сенях на сене, октябрь был не суровый, можно было перекантоваться. Там же получились стихи на эту тему – «Темнота в темноту», зацепился я за пейзаж и так стараюсь с ним не очень расставаться.
Темнота
В темноту
Опускается пыльца
Где-то там
Где-то тут
Где-то около лица
Над покрытой головой
И в канавах у шоссе
Дождевой
Деловой
И касающийся всех
Происходит разговор
Между небом и землей
Между летом и зимой
И.В. – Г.: Написал ты эти стихи, и куда ты с ними пошел, где искал единомышленников?
Вс. Н.: У нас в Ленинском педагогическом институте было литобъединение, были симпатичные ребята. Сейчас мне трудно всех вспомнить, но главным там был Саша Аронов.
И.В. – Г.: Мой учитель в 635-й школе. Он был старше тебя?
Вс. Н.: По-моему, нет, но учился он на три курса выше, я сильно опоздал в институт. Он был старше меня по статусу. В институте было аспирантское литобъединение – Саша Аронов, Сережа Генкин, Галя Смирнова, Надя Терехова, Лена Иваницкая. Руководил литобъединением Володя Липсон, который, кстати, писал неплохие пародии.
И.В. – Г.: И как они восприняли эти стихи? Увидели ли в них что-то новое?
Вс. Н.: Я и сам лет этак пять не мог понять, почувствовать, что что-то умею. И это не только мое личное ощущение – это был вопрос всего искусства того времени, которое барахталось, вылезало, отлипало, отряхивалось. Где-то через два-три года мне показали живопись, что тогда люди делали, и тоже всегда можно было определить: вот это – советское, а это – нет.
И.В. – Г.: Кого ты увидел первым из новых художников?
Вс. Н.: Первая живопись была оглушительной, это резкое, отчетливое впечатление: 59 год, меня Саша Гинзбург повез в Лианозово, я увидел Рабина и обалдел. Я до сих пор считаю его большим художником.
И.В. – Г.: Значит, первым представителем этого круга, с которым ты познакомился, был Алик Гинзбург?
Вс. Н.: Ну, это не совсем так. Гинзбург был первым, кто обратил внимание на мои стихи. А стихи он получил, возможно, у Саши Аронова. Это все были люди из «Магистрали» – литобъединения при клубе железнодорожников, которым руководил Григорий Левин, весьма неоднозначный персонаж. Он меня поначалу очень насторожил, но в результате сделал много хорошего. Но, может, у него такое задание было. Я начал ходить туда с 58 года, у нас на Красносельской в институте был как бы филиал этой «Магистрали», к нам приходил Окуджава, Эренбург рассказывал то, что потом было напечатано в «Оттепели».
И.В. – Г.: Скажи, Сева, тогда уже было у тебя четкое разделение советского писания, советского слова и нашего, того, что потом стало называться вторым русским авангардом, а тогда имело самоназвание «левые»?
Вс. Н.: Оно было-то было, но я достаточно рано стал понимать, что есть такое советское, от которого не отмахнешься, – достаточно одного «Теркина» или Светлова. Я знал, что Светлов – это советское, но для меня он был очень важен. Или Антокольский, Луговской – они были советскими поневоле. Но это было физически ощутимо – от чего надо избавляться, иначе не получится, иначе сам влипнешь. Это не обязательно советская идеология, хотя все связано. Хорошие стихи автоматом не делаются только резкой антисоветской позицией – это не так просто. Луговской вот, кажется, уже меньше думает, меньше терзается, дело житейское, все так. Тридцать лет и больше происходит амортизация, которая принимает советские формы, то есть поздние стихи тяжелеют. Но ведь есть же не только поздние.
Потом был этот знаменитый проект с «Синей весной», но мне это особенно не показалось, и Луговского я особенно не полюбил. И у Антокольского много серьезного и искреннего («Сын»). Но в результате от него остается только восемь строк.
И.В. – Г.: А лично ты не был знаком с кем-то из них?
Вс. Н.: А зачем мне? Я в той же «Магистрали» видел достаточно всяких людей, мне понятно, о чем будет идти разговор, все мололи языками примерно одно и то же. Но были и такие, которые в то время владели каким-то секретом: Л. Мартынов, и Б. Слуцкий, и что-то было в песнях Окуджавы. И Слуцкий не сталинских стихов, а ошарашившего меня «После драки помашем кулаками». День поэзии, 1956 год. Сразу понятно, что есть поэзия, есть люди, которые знают, но лет через восемь последовало:
Добывайте, ребята, опыт,
Отбывайте, ребята, стаж.
У народа нет времени,
Чтобы слушать пустяки.
И это нотация нашему брату, и прежде всего тогда, когда Никита уже полез громить формализмы, абстракционизмы и авангардизмы. И Борис Абрамович тут как тут. Вот молодец какой. Ну, тут на него все взъелись, и правильно сделали. И никто больше не захотел иметь с ним дела. У меня даже есть эпиграмма:
– Русский ты
Или еврейский?
– Я еврейский русский.
– Слуцкий ты или советский?
– Я советский Слуцкий.
А до этого я побеспокоил Бориса Абрамовича и Давида Самойловича (Самойлова), который мне поначалу очень понравился, хотя не так. Ну, это вопрос соотношения традиционного и нетрадиционного стиха, соотношения, которого никогда никто не разрешит. Почему традиционным путем не может ничего получиться? Ведь так писали очень хорошие стихи. Почему же сейчас не может быть Пушкиным Самойлов? Он очень настаивал на Пушкине.
Потом мы с Игорем Мазлиным пошли, по рекомендации Володи Ленсона, который уже тогда был правдист и «народник», к Владимиру Корнилову (он тогда стихи писал) и попросили его показать или почитать нам свои стихи. Я никогда не молился на Корнилова, но в нем что-то было, он отличался от других. Конечно, Сапгир был гораздо интереснее, а он корниловский сверстник. А Игорь Мазлин был привержен к народности и слушал Корнилова разинув рот. Я слышал стихи Корнилова и раньше, он писал много и напористо, что само по себе достижение. Потом мне передали, что Корнилов принял меня за стукача. Вот сука какая!
И.В. – Г.: А стихи свои ты ему показывал?
Вс. Н.: Кажется, да. Так вот, стихи ему как раз не понравились.
И.В. – Г.:А Слуцкому?
Вс. Н.: И Слуцкому я приносил стихи, но он ко мне относился величественно. Я дал ему стихи, чтобы он в «День поэзии» предложил, но он ничего, конечно, не сделал. Андрей Сергеев хорошо про него в своих воспоминаниях написал: «Человек из Харькова». Он у меня спрашивал, предлагал ли я свои стихи еще в других местах. Так я же тебе их для этого и дал – предлагай! А я потом по нему проверял, как я себя веду по отношению к другим поэтам.
А Мартынову я позвонил, а он: «Что у вас – стихи? Ха-ха-ха! Так приходите». После этого я уже не пришел.
И.В. – Г.: Ну, это более-менее старшее поколение, а к классикам ты не пытался пойти? К Пастернаку, Ахматовой?
Вс. Н.: Ахматова меня мало интересовала всегда, честно скажу. Пастернака я не застал, был только на похоронах. И потом, к позднему Пастернаку я относился, как к позднему Луговскому, и был, конечно, не прав. Но давать ему свои стихи мне не хотелось, так, как Слуцкому, который написал тогда «После драки». Пастернак – поэт, конечно, хороший, но почему-то желания не было. Я ни тогда не любил, ни сейчас не люблю то, что называется Серебряным веком. Мне больше всего нравится Мандельштам – он этот Серебряный век подытожил. Из него то годится, что идет в дело, он как будто привил классическую розу советскому дичку. Он скрестил Блока с Маяковским. Ну и, конечно, Анненский. Я тогда его мало знал, спасибо ему за многое. Но Мандельштам, мне кажется, подвел черту, не в том смысле, что не стоит с этим возиться, а превратил это в продуктивное актуальное явление, и дальше вся русская поэзия существует прошедшей через мандельштамовский кристалл.
Ну, конечно, для меня очень важен Есенин. Позже я прочитал пастернаковскую «Сестра моя – жизнь» и другие его ранние стихи и понял, что я был не прав по отношению к нему.
И.В. – Г.: Потом ты познакомился с Холиным, Сапгиром, Сатуновским?
Вс. Н.: Сапгир появился в 1959 году. Сатуновский несколько позже – в 61-м. Они были моими коллегами по «Синтаксису» Алика Гинзбурга, который меня и привез в Лианозово, и там Рабин дал мне почитать Сапгира. Алик Гинзбург был другом моего школьного приятеля Алеши Русанова. Алик несколько лет назад умер в Париже.