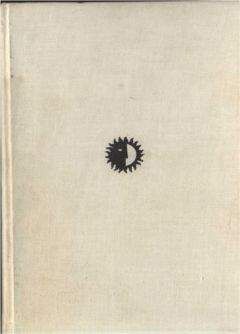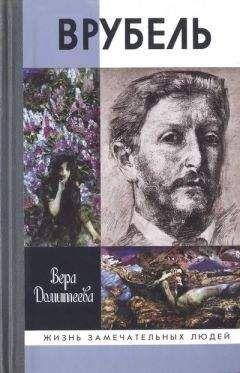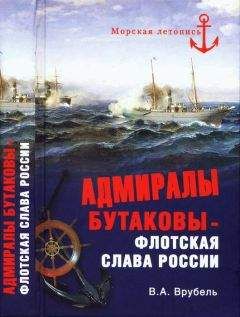Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
И.В. – Г.: Семья тебя поддерживала?
Вс. Н.: Ну, в семь лет – конечно, но, когда я рос, семья кончалась постепенно. Начались всяческие сложности и передряги. В аховых условиях эвакуации мы, пять человек, жили в одной одиннадцатиметровой комнате с печкой, плюс всякие нелады в семье: у отчима была семья – дочка, зять. Люди неплохие, но жить всем вместе было тяжело, тем более мать уже была больна и нервы у нее хорошо гуляли. Она нахлебалась лиха еще в Гражданскую, у нее тогда революционные граждане солдаты и матросы убили жениха.
И.В. – Г.: Из твоих родственников никто не писал и не имел к культуре никакого отношения?
Вс. Н.: Прямого – нет, но читали очень много, и отец собрал приличную по тем временам библиотеку, которая исчезла во время войны. Наша московская квартира исчезла, и вернулся я уже на Петровку.
До войны на Тихвинке мы жили в доме учительского кооператива 28 года постройки – кирпичной четырехэтажке с убогими квартирами. Но мы-то жили там втроем: папа, мама и я, и было все нормально, а потом все пошло к черту: эвакуация, война… Так что какая там поддержка. На Петровке мне выделили маленький убогий уголок.
И.В. – Г.: Я думаю, все наше поколение само себя создало, то есть все мы получили из семьи ту или иную генетику, тот или иной культурный уровень, но не было никакой преемственности. Каждый создавал себе культурное пространство.
Вс. Н.: У меня постепенно разорвались все отношения с приемной семьей, я там был абсолютно некстати, и меня выперли в тот угол, который ты видела. Но мать приучила меня читать и очень настаивала на Маяковском. И еще я обязан тете, которая мне помогала материально. Я учился на ее деньги. Она водила компанию с известными людьми, рассказывала о Есенине и Маяковском, и смутные впечатления об этой атмосфере очень на меня повлияли тогда.
И.В. – Г.: Знаешь, мой отец, Израиль Аронович Врубель-Голубкин, профессор геологии (он умер в 29 лет в 1952 году, я его практически не помню), писал стихи под Маяковского. От него осталось много футуристических книг, я на них в детстве рисовала. Мне никто не мог объяснить, чем это станет потом для меня.
Вс. Н.: Да и у меня оставалось несколько таких брошюрок, я тоже не помню, куда они подевались. Была одна такая имажинистская штука c супрематической графикой. Шершеневич там был и еще кто-то.
И.В. – Г.: Собственно, почему я все это спрашиваю? Меня интересует, как ты пришел к своему поэтическому языку, какой путь проходит человек, создавший свой поэтический мир и повлиявший на развитие русской поэзии. Попытайся рассказать об этом.
Вс. Н.: Ну, об этом я рассказать не могу, потому что мне это неведомо и незнакомо, и это интересная для меня информация о мифотворчестве. Но я могу рассказать, как я приохотился к стихам. А приохотился я к ним через юмористику и пародию.
И.В. – Г.: Какую?
Вс. Н.: Архангельского.
И.В. – Г.: У тебя была дома книга пародий Александра Архангельского?
Вс. Н.: Мне дала ее почитать очень интересная девочка из параллельного класса 635-й школы, которую звали Иркой. Но она не оправдала своего образа в дальнейшем.
Война всех страшно перепугала, и у всех был страшный послевоенный испуг. Война – это конец жизни, сплошная темнота и голод. Я за четыре года не наедался досыта ни разу.
И.В. – Г.: «А на вкус луна была белая»?
Вс. Н.: Один раз я наелся гнилой картошкой. Ее и много-то было, потому что гнилая. Потом меня понос прохватил. Темно, голодно, холодно, что будет, неизвестно. А тут война кончилась. И, слава тебе, господи, – электричество, жрачка, ну, хлебом, во всяком случае, можно было наесться, а потом уже и с маслом. Короче говоря, сплошное веселье. Это такой откат, фаза эйфорическая после депрессивной. А тут еще юный возраст – понятное дело. Страшно мы тогда хотели жить и веселиться. Общество тогда больше всего любило эстраду.
И.В. – Г.: О каком обществе ты говоришь? Кто-нибудь из твоего окружения писал что-то?
Вс. Н.: Люди как люди, в основном хорошие, а из писавших был такой Дима Урлов, человек в школе видный, читал у нас на школьных литературных вечерах, но потом показал себя советской породы человеком. В 60-х, когда я кое-что написал и считал, что это можно показывать, был момент, что я к нему обратился, а он уже работал в Институте всемирной литературы, но толку никакого из этого не было.
И.В. – Г.: А учителя?
Вс. Н.: Особенно запомнилась учительница литературы Лидия Герасимовна Боранштейн. Когда мы спросили, почему мы изучаем только поэму Блока «Двенадцать» и где остальные стихи этого поэта, которые раньше были в хрестоматии, она ответила: «А Блок, кроме “Двенадцати”, – это символизм, зачем нам изучать символизм?»
В школе была довольно интенсивная литературная жизнь – вечера, конференции. Правда, ребят больше привлекали танцы после этих мероприятий. Я никогда не танцевал, зато читал стихи и нес всякие глупости, кроме одного раза, когда я рассказывал о прочитанной перед этим книге К. Чуковского «Мастерство Некрасова». У меня было издание конца 20-х – начала 30-х годов, еще не переработанное, в последующих изданиях уже не было нужной мне информации. То же тогда сделали с Эйхенбаумом и многими другими. Вроде бы Чуковский не испытывал никаких давлений, но и у него стало все как-то растекаться, и вот такой убедительной антологии городского Некрасова у него потом не получилось. И это очень существенно, потому что Некрасова изучают по сельской классике, это очень здорово, никто не спорит, но все-таки самый острый, самый небывалый и актуальный Некрасов – фельетонно-куплетный и нисколько не менее грустно-щемящий и драматичный, чем сельский, но гораздо живее. На самом деле он гораздо больше жил в городе, чем в деревне, и, конечно, жил литературой, и нечего ревизовать Некрасова, не может быть тут никаких ревизий, это пошлятина и глупость. Это как ревизовать Маяковского за то, что он имел роман с советской властью, ревизовать Некрасова за то, что он недалеко от Чернышевского бился. Чепуха. Конечно, Пушкин, Лермонтов, Некрасов – эта тройка останется навсегда, по стиху, во всяком случае. В стихах он делал то, что до него никто никогда не делал, и я это почуял очень рано, еще в последний год войны мне попалось старое, дореволюционное издание Некрасова со всем этим городом, стихами о погоде. И меня очень заинтересовал этот мир: незнакомый, непонятный, видно, что очень живой, реально существовавший. И об этой книге я рассказал на конференции в школе.
Конечно, в школе было очень много школярства и действительно много дураков, но все же это какой-то круг был. Закончил я школу в 1953 году. Как раз подох товарищ Сталин, и все стало очень просто, четко и красиво. Все стали увлекаться агитками.
И.В. – Г.: Какими агитками?
Вс. Н.: «Встречей на Эльбе», Голосом Америки, «Уссурийским вальсом», «Солдатами Америки» – это была западная жизнь, которую надо было разоблачать, все укладывалось в схему борьбы за мир и с негодяями из ФБР. И, конечно же, начали танцевать буги-вуги, и чем больше с этим боролись, тем больше это привлекало. Потом появился Райкин, потом «Вот идет пароход», Менакер и Володин, и все это смотрелось, обсуждалось, и все привело к собственному писанию.
Потом я прочитал книгу Архангельского и вдруг обратил внимание на то, как это смешно, остро, интересно, что те стихи, которые он пародирует, не менее смешные, не менее острые, чем, например, Маяковский. Даже еще более. Ясно, что эта забота сделать строку как можно физически сильнее есть и в оригинале, и в пародии. Архангельский понимал, что, если не довести до упора то, чего хотел автор, не будет пародии. А автор до своего упора довел раньше – и ничуть не хуже.
Меня это озадачило, потому что в этом и был секрет писания стихов, которых я еще сам не писал, но уже задавал себе вопросы.
И.В. – Г.: Какой это год?
Вс. Н.: 1951-й или что-то такое. Я уже пытался писать стихи сам, очень плохие.
И.В. – Г.: Ты помнишь что-нибудь из них?
Вс. Н.: Даже если бы что-то помнил, не стал бы их читать. Не то что они были советские – они были образцово плохие, и, если они откуда-то вылезут, их нужно сразу уничтожить. А получаться у меня стихи стали пять лет спустя: 56-й, 57-й, 58 год. Может быть, более точно – осенью 1957-го.
И.В. – Г.: Какое первое получившееся стихотворение?
Вс. Н.: Вот это:
Под ногой от порога
Чувствуешь, что листва
Тут должна быть дорога
Там должна быть Москва
Темнота нежилая
Дождевая тишина
Окликает дальним лаем
Один фонарь
Другой фонарь
Я могу пустить тебя в свою лабораторию: эти стихи я стал считать за действующие гораздо позже, когда мне пришло в голову немножко сдвинуть строчки, чуть-чуть испортить более правильно написанные стихи, но правильность эта аннулировала сами стихи. Было так:
Под ногой у порога шевелится листва
Дальше было: