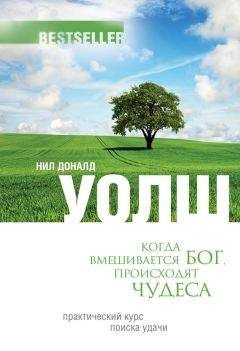Роман Арбитман - Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать
Продираясь сквозь «изысканный» текст, отмечаешь его редкостную неряшливость. Критик Сэм Лобасов через страницу превращается в Дэна, алкоголик Пургач становится Пургачевым, чай «Мудрая обезьяна» оказывается вдруг «Зеленой обезьяной», а один и тот же эпизод прилета в Лондон повторен дважды (второй раз, видимо, на бис). И тому подобное.
Сразу после выхода книги автор объяснил журналистам, отчего давно обещанный третий том появился только сейчас: «Я ведь не графоман с букеровским дипломом, я профессионал и не привык выпускать текст, требующий доработки». Либо это писатель так своеобразно понимает профессионализм, либо это издатель решился на преступление: подкараулил автора в ночи, вырвал недоделанную рукопись и побежал в сторону типографии. А Поляков его не догнал.
Концерт для диктофона с оркестром
Антон Понизовский. Обращение в слух: Роман. СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А»
«Сова приложила ухо к груди Буратино. «Пациент скорее мертв, чем жив», — прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом: «Пациент скорее жив, чем мертв»…»
Если в этой цитате из сказки А. Толстого заменить слово «Буратино» на слово «Россия», то вы получите примерное представление о сюжете дебютного романа экс-журналиста НТВ Антона Понизовского. Действие происходит в Швейцарии, в уютном «Альпотеле Юнгфрау», неподалеку от убежища байроновского графа-чернокнижника Манфреда: отсюда, с высоты трех тысяч метров над уровнем моря, открывается прекрасный вид на Россию, а гостиничный табльдот помогает героям заниматься историософией и обсуждать все возможные варианты диагноза, не отвлекаясь на презренный быт.
В роли доброго доктора Жабы выступает эмигрант Федор, «молодой человек с мягкой русой бородкой», специалист по творчеству Достоевского. Роль безжалостной Совы играет сорокалетний Дмитрий, турист-бизнесмен, тоже не чуждый достоевсковедения. Cам процесс постижения «загадки русской души» заключается в прослушивании диктофонных записей интервью с простыми гражданами бывшего СССР и последующем обсуждении. Феде его изыскания оплачивает Фрибурский университет, а Дмитрий, застигнутый в отеле непогодой (из-за извержения исландского вулкана авиарейсы отменены), готов отправиться в «путешествие к центру души» бесплатно, скуки ради.
Сами рассказы «реципиентов», переложенные на бумагу и явленные читателю, составляют половину книги, причем протуберанцы наивной ностальгии («Люди были другие. Добрейшие были люди!», «При коммунистах жить было лучше»), наивного национализма («кто на иномарках за рулем ездиет? Нету русских!») и тоски по Сталину достаточно редки. Значительная часть историй — драматичные перипетии мужчин и женщин, к которым жизнь отнеслась особенно неласково: войны и аресты, скитания и страдания, сломанные судьбы и безвременные смерти близких… Горькая чаша, казалось, испита до дна, но всякий раз наполняется снова.
Позиции комментаторов полярны. Прослушав очередную запись, Дмитрий обвиняет народ в жестокости, Федя его оправдывает («разгул — да, но ведь и отходчивость, и прощение»). Дмитрий рассуждает о низком уровне жизни, Федя отбивает пас пламенной речью о высокой духовности (душа народа «стремится к святыне, стремится к правде!»). Дмитрий упрекает Россию в нецивилизованности, Федя парирует: западная цивилизация, мол, «несет загрязнение для души». Дмитрий твердит о массовом пьянстве как источнике множества бед, Федя же видит в этом национальном недуге высший сакральный смысл: быть может, в России по-черному пьют оттого, что именно этот народ сильнее других ощущает «острую нехватку Бога»? Дмитрий толкует о тотальном инфантилизме («психологический возраст русских — ну, в большинстве своем, — лет двенадцать–тринадцать»), а Федя, ухватившись за метафору, воодушевленно сравнивает Россию с тем страдающим ребенком, о котором говорили братья Карамазовы. Автор вообще очень старается, чтобы на образ велеречивого Феди пал отсвет князя Мышкина, а на циничного Дмитрия — тени Свидригайлова и Ставрогина. Авось тогда грамотный читатель сам проведет лестную параллель между Понизовским и Достоевским.
Хотя никто из рецензентов пока и не рискнул назвать Антона Владимировича современной инкарнацией Федора Михайловича, в комплиментах нет недостатка. Ведущая юмористической телепрограммы уже пообещала, что будет советовать друзьям прочесть это произведение. Рецензент глянцевой «Афиши» назвал книгу «настоящим Русским Романом — классическим и новаторским одновременно», а обозреватель православного журнала «Фома» возрадовался: «В нашу литературу пришел очень серьезный, глубокий писатель». Еще до того, как «Обращение в слух» угодило в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», сам романист не без гордости поведал в нескольких интервью, что все приведенные в романе истории — подлинные!
Оказывается, запись велась на Москворецком рынке и в областной больнице будто бы в рамках проекта «неофициальной» истории России. Однако рассказчики, изливая души перед диктофоном интервьюера, вряд ли подозревали, что превратятся в эпизодических персонажей романа, где их боль, муки и утраты станут иллюстрациями к схоластическим спорам двух карикатур, как-бы-западника и якобы-патриота. Да простит меня автор за жесткую аналогию, но его подход к людям как к «материалу» вызывает ассоциации не с Достоевским, а скорее с Гюнтером фон Хагенсом: биологом-шоуменом, который возит по Европе выставку «пластинатов» — то есть художественную инсталляцию из обработанных по специальной методике человеческих трупов.
Натуристый и корябистый
Захар Прилепин. Обитель: Роман. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной
Год назад в интервью Захар Прилепин отчеканил: «Сталин — это символ порядка, суровости, властителя без всякой примеси гедонизма. Он после себя оставил только военную шинель и пару сапог. В нем была самоотверженность и что-то религиозное». Год спустя тот же Прилепин выпускает объемный роман в сомнительном для писателя-сталиниста жанре «лагерной прозы».
Неужто мир перевернулся или Захар прозрел? Да не дождетесь: события романа происходят не в Карлаге или Устьвымлаге, а на Соловках, и не во второй половине 30-х, когда конвейер смерти перемалывал миллионы судеб, а десятилетием раньше, в «сравнительно вегетарианских», говоря словами Ахматовой, 20-х. Тем не менее для создателя «Обители» Соловецкие острова — готовый архипелаг ГУЛАГ в миниатюре, со всеми его свинцовыми мерзостями. Зачем эти манипуляции с календарем, понять легко: так автору проще реабилитировать своего любимца.
Читателю внушается нехитрая мысль о том, что-де «большой террор» в СССР был начат до Иосифа Виссарионовича, а продолжался не соратниками усатого вождя, но его политическими противниками. И хотя к моменту начала романа Сталин уже семь лет как генсек ВКП(б), а Троцкий исключен из партии и скоро будет выслан, имя Троцкого то и дело мелькает на страницах книги, а Сталин не упомянут ни разу. Ну нет его среди «архитекторов» репрессий! Есть начальник Соловков, садист-интеллектуал Эйхманс (тут он назван Эйхманисом). Есть главчекист Ягода. А выше только звездное небо — без намека на нравственный императив философа Канта. Вы помните, что именно в Соловки предлагал упечь Канта известный персонаж Булгакова?
Отдадим должное Прилепину: скотство лагерных конвоиров и муки подконвойных он описывает в подробностях, со всеми тошнотворными нюансами. «Русская история дает примеры удивительных степеней подлости и низости», — рассуждает писатель в послесловии, признаваясь, что и к советской власти, и к ее хулителям сам относится почти одинаково скверно. Такая «взвешенная» позиция заметна в романе, где охранники и зэки в основном стоят друг друга. Почти все, мол, одинаковы: поменяй их местами — и ничего не изменится. Бывший офицер Бурцев зверствует так же, как и лагерный расстрельщик Санников; бывший колчаковец Вершилин, сдиравший кожу с коммуниста Горшкова в контрразведке, не лучше чекиста Горшкова, который теперь забивает зэков сапогами. Да и главный герой книги Артем Горяинов — его глазами мы следим за событиями — попал в Соловки не безвинно, а за убийство отца…
Интересно, чем роман «Обитель» так приглянулся редактору именной серии издательства «АСТ», строгой и рафинированной Елене Шубиной? Оригинальной историософской концепцией? Так ведь и до Захара кое-кто баловался небезобидными фокусами с моральным релятивизмом, уравнивающим жертв большевистского террора с палачами. Или, может, наш автор — не только сталинист, но и стилист безупречный? Ну-ка, посмотрим. «Всем своим каменным туловом», «бурлыкало в голове», «горился», «перегляд», «журчеек», «натуристый», «корябистый» и пр. Неужто внутри молодого горожанина Артема скрывается деревенский старик Ромуальдыч? «Всё это играло не меньшее, а большее значение, чем сама речь» (даже первоклассников учат не путать выражения «играть роль» и «иметь значение»). «Ряд событий слипся воедино» — это как? «Рот большой, с заметным языком» — про человека говорится или про пса? «Он едва пах», «он был старье старьем и пах ужасно» (помнится, это «пах» вместо «пахнул» доводило до бешенства чувствительного к слову Довлатова). «Терпко что-то качнулось в душе», «стать причиной насупленного внимания», «было для Артема серьезным удивлением» (да уж!). Читатель готов перетерпеть «многословный дождь», но в книге есть еще «дремучий тулуп» («труднопроходимый» — и только по отношению к слову «лес»), и «сладострастные булки» (то есть «отличающиеся повышенным стремлением к чувственным наслаждениям») и еще многое другое в том же духе и стиле.