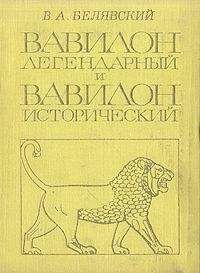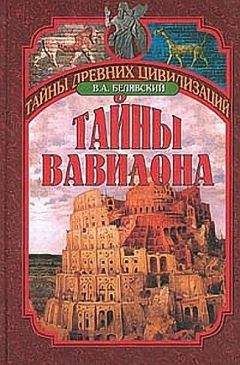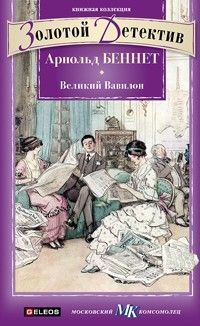Джеймс Веллард - Вавилон. Расцвет и гибель города Чудес
К сожалению, того же нельзя сказать о большей части шумерской литературы, которую на настоящий момент ученые предоставили нашему вниманию. Приходится признать, что «смягчить» или сделать «более человечной» религиозную литературу практически невозможно. Работа с литературными текстами считалась прерогативой небольшого числа специалистов и почти не выходила за пределы их узкого круга. Неудивительно, что один из самых выдающихся шумерологов, С.Н. Крамер, посвятивший себя копированию, чтению и переводу табличек, довольно мрачно определяет специалиста в этой области: «почти идеальный пример человека, который знает как «можно больше о как можно меньшем» – весьма ограниченный тип, о котором с пренебрежением отзываются даже самые недалекие среди ученых». Это грустное определение говорит нам также и о состоянии, в котором находится данная ветвь гуманитарной науки, особенно если вспомнить, какое упорство требуется от того, кто решил овладеть грамматикой, синтаксисом и лексикой шумерского языка. После этого становится понятно, почему переводы трудных отрывков текста в самом лучшем виде выглядят примерно так:
Могу я (тоже) приобрести благоприятное шеду, как то,
что перед тобой;
Могу я (тоже) приобрести ламассу, как то, что позади
тебя.
Читателю, не получившему специального образования, остается лишь догадываться, какие предметы имеются здесь в виду, – очевидно, нечто вроде одежды, которую носят спереди и сзади.
Доктор Крамер объясняет, с какими проблемами приходится сталкиваться ему и его коллегам, переводя с шумерского. Он говорит о трудностях, о «ложных возможностях» и причинах ошибок, признавая, что многие шумерские слова можно понять лишь весьма приблизительно. Он предупреждает:
«Если переводчик подступает к работе с каким-то заранее составленным мнением о тексте, часто становится нетрудно найти эквивалент тому или иному конкретному слову, который после некоторого поверхностного анализа можно подогнать к ожидаемому смыслу».
Очевидно, что неспециалистам недоступны филологические тонкости такого рода и им остается только ожидать решения экспертов. И в то же время трудно избавиться от впечатления, что шумеры, этот загадочный народ, от которых надеются что-то услышать (как мы ясно слышим голоса римлян, греков, египтян и даже вавилонян), остаются немыми. Более того, если некоторые из переводов действительно передают их настоящую речь, то не следует ли прислушаться к тому, что они пытаются сказать?
На примере «Эпоса о Гильгамеше» мы знаем, что прислушаться к ним стоит. И на основании других источников нам также известно, чего нам недостает, потому что голос шумеров звучит и в других произведениях искусства, например в портретах. Причем не столько в портретах их богов и царей, сколько в изображениях простых жителей, таких, как Ур-Нанше, певец, с забавным пробором на голове и решительной улыбкой, или Курлиль, самодовольный чиновник, уютно сложивший руки на брюшке. В своих портретах и в тех отрывках светской литературы, которые напоминают пословицы, шумеры стараются выразить две основные мысли: во-первых, наслаждаться жизнью нужно сполна; во-вторых, это единственная наша жизнь и всех нас ожидает смерть. Это убеждение стойко сохраняется во всем их неофициальном искусстве, точно так же, как в произведениях искусства Средневековья отражаются убеждения писателей и художников того времени. Сравнение это оправдано еще и тем, что для обеих этих эпох характерны глубокая религиозность и теократическая форма общественного устройства.
Такое сравнение может показаться парадоксальным, пока мы не поймем, что в шумерской культуре, в отличие от культуры Средневековья, не существовало понятия греха, точнее, первородного греха. Нам кажется почти невозможным представить религиозные убеждения, лишенные чувства вины, поскольку наши представления о морали сложились под влиянием еврейских пророков и отцов христианской церкви. Мы склонны отождествлять секс с грехом, а подобная моральная позиция часто мешает воспринимать такие чуждые культуры, как культура Шумера. Более того, судить о цивилизации четырехтысячелетней давности по этическим нормам, сложившимся несколько сотен лет тому назад, некорректно с точки зрения исторической науки. Особенно это верно, когда дело касается фактов, описываемых антропологами такими эффектно звучащими штампами, как «фаллический символ», «храмовые проститутки», «ритуалы плодородия», «культ матери», «богиня-земля» и т. д. В действительности нам неизвестно, мог ли храм официально содержать публичный дом, наподобие того, как методисты могут организовывать благотворительную ярмарку.
Чтобы понять, что на самом деле происходило в те времена, нужно спросить самих шумеров, а это возможно, лишь если мы абстрагируемся от своих представлений о должном и недолжном. Кроме того, чтобы лучше понять культуру шумеров, нам нужен добросовестный и, по возможности, красивый перевод их литературы. Существует ряд поэм, посвященных смерти, которые напоминают своей философией и образностью произведения елизаветинского периода, с той же степенью меланхолии, доходящей почти до отчаяния от зрелища «крылатой колесницы Времени». Шумеры, вне всякого сомнения, согласились бы с описанием посмертного мира Марвелла[22]: «пустыня обширной вечности» – другими словами, ничего, кроме пустого пространства.
Очень древний «плач», записанный приблизительно в 2500 г. до н. э., заявляет со всей категоричностью:
Тот, кто еще живет в ночи, сегодня он мертв;
Неожиданно падает в тьму, быстро рушится.
Одно мгновение он поет и играет
И вдруг воет как вопящий человек.
Мы приводим этот текст как пример того, насколько шумерская литература нуждается в лучшем истолковании; в нынешнем своем виде эти строки кажутся не совсем адекватными, даже синтаксис здесь изменен. Несовершенен и выбор слов. «И вдруг воет как вопящий человек» режет слух, так как мы привыкли, что выть скорее могут волки или привидения, а не люди в предсмертной агонии.
И все же следует признать, что неподготовленному человеку пока рано вникать в семантические проблемы шумерского языка. Мисс Сандерс, конечно, сделала прекрасный почин своим переводом «Гильгамеша», и в большой степени именно благодаря ее «гуманизации» древнего эпоса был пробужден интерес к древнейшей литературе. В качестве примера того, чего может достичь переводчик, толкующий не только слова, но и сам дух произведения (а это суть переводческого мастерства), процитируем две недавно переведенные шумерские эпиграммы в адаптации Найджела Денниса буквального перевода С.Н. Крамера.
Моя жена в храме (букв, «во внешнем святилище»);
Моя мать внизу у реки (возможно, выполняет
религиозный ритуал);
А я здесь умираю с голода.
(С.Н. Крамер)Моя жена благодарит богов за все, что они дали ей,
Моя мать простерлась ниц у священной реки,
А я сижу здесь, надеясь на ужин.
и
Еда пустыни – жизнь человека,
Обувь – глаз человека,
Жена – будущее человека,
Сын – убежище человека,
Дочь – спасение человека,
Невестка – злой дух человека.
Пустыня делает мужчину,
Сапог указывает путь,
Жена определяет его судьбу,
Дочь утешает его в старости.
Сын служит ему щитом,
А жена сына разбивает его сердце.
И все же следует еще раз напомнить, что трудности, связанные с приобщением «широкого читателя» к шумерской литературе, чудовищны. В любом случае прочитать глиняные таблички могут не более нескольких десятков специалистов, и мы должны быть благодарны им за невероятное терпение, а также за эрудицию, ведь именно они познакомили нас со столь странными и в то же время привлекательными людьми. Но нам до сих пор хочется узнать о них нечто большее, чем официальные записи, посвященные делам богов и подвигам царей. Вот почему такое важное значение приобретает их «собственно литература»[23] – не столько из-за филологических загадок, сколько из-за философии выражаемой ею жизни.
В наиболее удачных переводах с шумерского можно встретить некоторые намеки относительно этой философии. Несмотря на фатализм, на убеждение в преходящем характере всего сущего, на печальную картину загробной жизни («дом, где люди сидят в темноте, с пылью у ног»), шумеры смотрели на жизнь спокойным, благожелательным взором. Вся ее сущность словно бы сконцентрирована в совете, который одна старая женщина дает Гильгамешу, пришедшему в отчаяние от неизбежности старости и смерти:
«Наполни свой желудок хорошей едой. День и ночь, ночь и день, танцуй и веселись, празднуй и радуйся. Пусть твои одежды будут свежими, искупайся в воде, приласкай ребенка, держащего тебя за руку, и осчастливь свою жену объятьями».