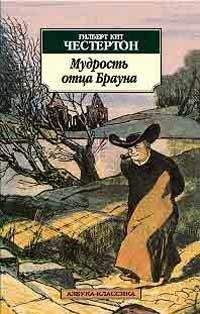Гилберт Честертон - Человек с золотым ключом
Йейтс очень притягивал меня, но как‑то странно, словно сразу оба магнитных полюса. Это нужно пояснить не столько ради моих тогдашних представлений, сколько ради того, чтобы стали понятней особенности тех лет, которые теперь почти все изображают неверно. Многое в викторианских идеях я не люблю, многое — почитаю, но должен сказать, что в них не было ничего «викторианского». Я достаточно стар, чтобы помнить то время, и могу заверить, что оно совсем не такое, как теперь думают. В нем были все пороки, которые сейчас именуют добродетелями — религиозные сомнения, беспокойство разума, голодная доверчивость ко всему новому, немалая неуравновешенность. Были в нем и добродетели, которые именуют пороками — романтичность; желание, чтобы любовь мужчины и женщины стала такой, как в раю; потребность в смысле жизни. Однако во всем, что мне говорят о «викторианском духе», я немедленно чую ложь, которая, как туман, закрывает правду. Особенно верно это по отношению к тому, что я попытаюсь описать.
Общий фон в мои детские годы был агностический. Мои родители выделялись среди образованных и умных людей тем, что вообще верили в Бога и в вечную жизнь. Помню, Люшен Олдершоу, познакомивший меня с богемной колонией, сказал мне как‑то еще в школе, на скучном уроке греческого, где мы читали Новый Завет: «Конечно, мы с тобой научились вере у агностиков», а я представил наших учителей, кроме двух — трех чудаковатых священников, и понял, что он прав. Агностиками в духе Гекели было, собственно, не наше поколение, а предыдущее. Шли годы, о которых Уэллс, дерзкий послушник Гекели, написал вполне правильно: «Нависло то ироническое молчание, которое сменяет бурные споры». В тогдашнем споре, если судить поверху, победил Гекели, и настолько, что тот же Уэллс в том же абзаце позволил себе сказать о епископах: «Социально они на виду, а вот умственно — попрятались». Как это все отдаленно и трогательно! Я дожил до споров о дарвинизме, в которых прятались скорее поборники эволюции. Молчание, нависшее после первых споров, было куда ироничней, чем думал Уэллс. Конечно, тогда казалось, что вера повержена и мир очутился в пустыне материализма. Никто не ждал бесчисленных прорывов мистики, которая теперь сотрясает страны, как плоские здания Пимлико или Блумсбери не ждали хохлатых крыш и странных труб Бедфорд — парка.
Однако предместье это удивляло не безверием, в котором ничего нового не было. Сравнительно новым был социализм в узорном, как обои, стиле Уильяма Морриса. Социализм в стиле Шоу и фабианцев только — только начинался. Агностицизм же был прочно утвержден; можно даже сказать, что он был почитаем церковью. При Елизавете добивались единства веры, при другой королеве единство неверия сплотило не чудаков, а просто образованных, особенно тех, кто был старше меня.
Конечно, среди атеистов попадались благородные борцы, но боролись они, как правило, не только с теизмом. Особенно хорош и отважен был мой старый друг Арчи Макгрегор — художник, протестовавший против англо — бурской войны. На этом мы и подружились; но даже тогда я догадался, что атеизм не вызвал в нем мятежа против морали, скорей, он ее укрепил. Протестуя против насилий и грабежа, Макгрегор защищал Навуфея от Ницше. Уэллс и фабианцы очень ясно видели, что чувствительные социалисты непоследовательны, когда говорят, что крестьянин не может иметь свой колодец, а вот крестьянство имеет право на нефтяной источник. Уэллс — такой же пацифист, как и милитарист, но он допускает только ту войну, которую я осуждаю. Как бы то ни было, не стоит считать, что бунтари, отвергшие церковь, отвергли и армию с империей. Разделение было сложнее и чаще всего шло совсем не так. Защитники буров вроде Макгрегора оказались в ничтожном меньшинстве и среди атеистов, и среди богемы. Я открыл это, как только вынырнул в более широкий мир писателей и художников. Трудно спорить яростней, чем Хенли и Колвин; мне довелось увидеть, как они спорили о теле Стивенсоновом. Однако оба они были убежденными материалистами и убежденными милитаристами. Дело в том, что империализм или хотя бы патриотизм заменяли многим религию. Свет имперской отделенности, как свет маяка, бросал свои отблески на темный пейзаж «Шропширского парня», хотя, я думаю, простодушные патриоты не замечали вольтеровской усмешки в строках: «Имейте таких сыновей, как ваши отцы, и Бог королеву спасет». Я удовлетворю нынешние мои предрассудки, заметив, что закат протестантства принял форму пруссачества.
Однако здесь я описываю себя, каким я был, когда предрассудки эти меня еще не запятнали; и хочу сказать как свидетель, что фоном эпохи был не просто атеизм. Им было атеистическое правоверие, мало того — им была атеистическая респектабельность, обычная не только для богемы, но и для знати. Особенно же обычной была она для обитателей предместий, и только потому — для обитателей Бедфорд — парка. Здесь, в этом предместье, типичен был не человек вроде Макгрегора, а человек вроде Сент — Джона Хенкина. Сент — Джон Хенкин не был эксцентриком. Он был пессимистом, что безбожней безбожия; был глубоким скептиком, то есть не знал глубины; верил в человека еще меньше, чем в Бога; презирал демократию еще больше, чем религию, начисто отрицал какой бы то ни было пафос, но при всем при этом находился не на обочине, а в центре, почти в самом центре лондонской философии и культуры. Несомненно, он был талантлив, память о его пародиях еще жива. Многие его не любили, я к ним не принадлежал, но разочаровался в нем, как он — во всем. Очень типично для тех времен, что пессимизм не мешал ему печататься в «Панче» и что в царстве небрежных, диких или вычурных одежд он неизменно носил фрак. Он был невысокого мнения о белом свете, но светских кругов не чуждался, особенно таких, какие были тогда.
В унылом краю модного материализма спокойно расхаживал Уилли Йейтс, лично знакомый с феями. Хенкин отстаивал разочарованность, Йейтс — очарованность, чародейство. Особенно нравилась мне его боевитость. Как истинный рационалист, он говорил, что феи ничуть не противоречат разуму. Материалистов он сражал вчистую, кроя их отвлеченные теории очень конкретной мистикой. «Выдумки! — презрительно восклицал он. — Какие уж выдумки, когда фермера Хогана вытащили из постели, как мешок с картошкой, — да, да, так и стащили! (ирландский акцент наливался издевкой). Стащили и отдубасили. Такого не придумаешь!» Он не только балаганил, он использовал здравый довод, который я запомнил навсегда: тысячи раз о таких случаях свидетельствовали не богемные, ненормальные люди, а нормальные, вроде крестьян. Фей видят фермеры. Тот, кто зовет лопату лопатой, зовет духа духом. Конечно, можно сказать, что это — темные, неграмотные люди. Но по свидетельству этих самых людей мы отправим человека на виселицу.
Я был всецело с Йейтсом и его феями, против материализма, тем более — с Йейтсом и его фермерами против механического материализма городов. Однако все несколько осложнилось, и я на этом остановлюсь не только ради себя, но и ради того, чтобы объяснить получше, куда двигались и поэзия, и само время. Кое — где уже появлялась реакция на материализм, отчасти похожая на то, что позже назвали духовностью. Принимала она и мятежную форму «христианской науки», отрицавшей тело только потому, что противники отрицали душу. Но чаще и обычней всего она принимала форму теософии, которую называли и эзотерическим буддизмом. Может быть, здесь я должен объяснить мое тогдашнее предубеждение. Если оно и было, то никак не от правоверия, благочестия, даже простой религиозности. Сам я оставался почти полным язычником и пантеистом. Когда я невзлюбил теософию, я не знал теологии. Может быть, невзлюбил я не теософию, а теософов. Как это ни жестоко, я не выносил некоторых теософок — не за неверные доктрины (у меня вообще доктрин не было) и не за то, что они не считают себя христианками (что‑что, а я имел еще меньше прав на христианство), а за то, что у них блестящие, как галька, глазки и терпеливая улыбка. Терпеть им приходилось, главным образом, то, что другие еще не поднялись на их духовный уровень. Почему‑то никто из них не думал, как бы им подняться туда, где живет честный бакалейщик, или подогнать свою громоздкую повозку к парящему в небе кебмену, или увидеть в душе поденщицы путеводную звезду. Боюсь, я несправедлив к бедным дамам. Скорее всего, в них сочетались Азия, эволюция и английская леди, которые, на мой взгляд, гораздо лучше по отдельности.
Йейтс был совсем другим и нимало не увлекался их пророчицей миссис Безант, которая была почтенной, изысканной, искусной эгоисткой. Ей он предпочитал Блаватскую, которая была грубой, языкастой, буйной шарлатанкой, и я восхищаюсь его вкусом; однако думаю, что восточный крен сыграл с ним недобрую шутку, когда он перешел от фей к факирам. Надеюсь, меня поймут правильно, если я скажу, что этого замечательного человека зачаровали, то есть, что Блаватская — ведьма.