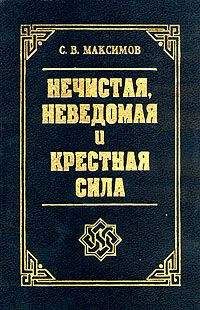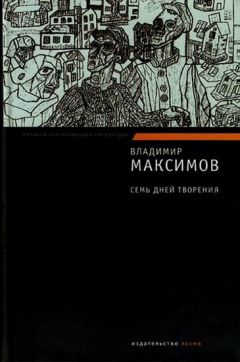Сергей Максимов - Сибирь и каторга. Часть первая
— Три года в Акатуе на цепи сидел. Сам старик рассказывал потом:
— В Калуге, на родине, почту мы ограбили и почтальона с ямщиком убили.
И откуда он взял столько хладнокровия, чтобы совершенно спокойно выговорить эти последние слова из рассказа своего.
— А за что тебя на цепь посадили? — спрашивал за меня пристав.
— Сами знаете, ваше благородие! — отвечал старик, и мягкая, кроткая улыбка пробежала по лицу его. Улыбка эта, может быть, в то же время меня обманула, но я и теперь за нее. Далеко ходить в оправдание ее, но лицо старика, при дальнейших расспросах, оставалось невозмутимо спокойным. Думал ли он на этот раз, что перед прямым, непосредственным своим начальником скрываться нечего, тот все знает, или сообразил он, что нет греха сознаться в том преступлении, которому минула законная давность и тяжесть которого давно уже искуплена цепью и одиночным заключением, сосредоточивающим все помыслы в самом себе, — старик обо всем этом вслух не сознался. Он поведал другое:
— На цепи я сидел за то, что из тюрьмы бежал, на дороге бурятскую юрту ограбил и одного братского задушил.
Опять хладнокровный тон в показании, как будто во свидетельство того, что старик теперь не боится за себя. Знать, "умыкали бурку крутые горки".
— Взял я его к себе в водовозы и не нахвалюсь старанием и усердием; запивает иногда, но очень редко! — говорил мне пристав. — У нашего начальника жила в кормилицах женщина, сосланная сюда за убийство собственного ребенка, и исполняла свою обязанность с такой любовью, что иная мать не прилагает столько нежности и ласки к собственному детищу. Мы объяснили это порывами раскаявшейся натуры, жаждавшей искусственной, подогретой любовью замыть кровавый грех ужасного преступления, но баба эта нас обманула. Теперь она осталась нянькою при многих детях и вот уже четвертый год такая же неустанная, бессонная, честная и нежная работница.
Третий, Мокеев, и также случайно попавшийся нам на глаза, был именно из тех боязливых и робких, которые привыкли прятать свой взгляд, привыкли быть замкнутыми и не откровенными на любой из вызовов ваших. Ссыльный этот писал, например, стихи, и одно время исполнял даже обязанность полкового пииты: написал по заказу начальства песню на отправление первой экспедиции, снаряженной для завоевания Амура. Он же сочинил целую тетрадку виршей, посвященных описанию всяческого быта ссыльного в тюрьме и за тюрьмою. Я долго упрашивал его поделиться плодами его досугов в расчете встретить в нем одного из тех сочинителей песен, которые приготовляют на тюремный обиход казарменные новые песни взамен старых народных, но получил ответ, что стихи он забыл, а тетрадку зачитали товарищи. При дальнейших просьбах я добился только обещания принести на днях; ждал я неделю и тетрадки все-таки не получил. Мокеев пришел в Нерчинские заводы по делу об ограблении и умерщвлении какого-то купца где-то в степных губерниях и принес с собою рекомендательные письма. По письмам этим он обвинялся только в том, что был при убийстве свидетелем, но не участником. Письма говорили, между прочим, и то, что он, нося веселое звание купеческого сына или брата, вел в то же время и жизнь, приличную этому званию, т. е. ничего не делал, кроме кутежей, ничего не видел, кроме трактиров и погребков. Он жил таким образом долго и весело, пока не истощились отцовские деньги. Недостаток денег вывел его из трактира в кабак, в кабаке он попал на развеселых товарищей, которые образовали шайку, имевшую намерением поправить свои обстоятельства и подсластить пропойную жизнь на чужие средства. Средством для этого друзья придумали грабеж на большой дороге. Желая ограничиться грабежом, они сгоряча и в противоборстве совершили убийство, но без участья Мокеева, хотя и в его присутствии. Как соучастник и друг убийц, не давший вовремя знать начальству о преступлении, он от товарищества судом выделен не был и вместе с ними попал на каторгу. Сюда, когда он освободился из тюрьмы, богатые родные присылали ему деньги. На деньги, при посредстве промыслового начальства, вознаградившего его тем снисхождением и участием, которых не получил он от судей, Мокеев успел затеять кое-какую торговлю. Торговал он удачно и деньги наживать начал, да вдруг вспомнил о своем бездолье и родине — и запил. Запой сокрушил все его средства; новые присылки денежной помощи шли в кабак. Сколько ни валили потом щебня в болото, гати не сделали; раз прососавшаяся вода по знакомому ложу смывала все преграды. На время (и только на время) приостановилась было вода на мельнице, не рвала гати и обещала по ней прямое и надежное русло туда, куда надо: Мокеев полюбил вольную казачку, полюбился и ей, и женился. Торговля опять пошла на лад, колеса на мельнице завертелись, мука была и покупателей было довольно, да вдруг загул и опять прорвало плотину. Суетилась жена, хлопотали соседи, суетились и хлопотали много и долго, а добились одного только, что больной стал пить не загулами, а запоем, что, как известно, и безнадежно, и неизлечимо. Стал Мокеев человеком убитым и потерянным; и скрежещет теперь зубами на свою шаль и дурь, и жену любит, и всеми соседями был бы любим за кроткий податливый нрав, да слабость свалила и не позволяет встать на ноги. Мокеев теперь на все рукою махнул.
— Ничего с ним не поделаешь, — говорила жена его, — самый беспутный человек! Песни писать пуще прежнего начал, станет тебе читать какую, слезой прошибет. Лучше бы уж в гроб скорее ложился да гробовой доской накрывался. Вот и вчера пьянехонек домой пришел и завтра такой же будет.
Отдельно взятые случайные личности мало значат. Живя на свободе, они могли утратить много того, чем отличается настоящий каторжный, да и жизнь на свободе, хотя и подле самых ворот каторги, далеко не каторга. Про людей, вышедших из тюрьмы, и самые соседи многого не скажут: многое забыли они, многое стараются забыть, зла не помня. И сами мы намерены не биографии писать, мы хотим видеть каторгу.
Каторги, однако, мы видеть не могли. Постоянные холода, стоявшие все время ниже 30 градусов, и человеколюбие горных офицеров задержали работы на разрезе до благоприятного времени. Каторжных из тюрьмы не выпускали, кроме нарядов на легкие и недолговременные работы. Тем лучше, стало быть, мы увидим тюрьму в полном составе и сборе. Идем туда.
Вот эта тюрьма Нижнего Карийского промысла у нас перед глазами. На тюрьму, в том смысле, как бы хотело представлять наше воображение, она не похожа. Нет даже и того казенного вида, каким поражает всякий старый этап по сибирским дорогам. Нет этих заостренных сверху бревен, плотно приставленных один к другому, черных, погнивших, нет и этих огромных ворот посередине, с низенькою захватанною калиткой и двумя полуразвалившимися будками по обеим сторонам скрипучих, громадных, тяжелых ворот, которые отворяются только два раза в неделю, чтобы проглотить и потом выбросить проходящую партию. Карийская тюрьма глядит решительной казармой и много-много если она похожа на такую, где существует так называемая сибирка, кутузка — места для временного полицейского ареста. Снаружи казарма эта очень ветхая, и даже не видать, чтобы она была недавно починена. Решетки ржавые, крыльцо погнившее, крыша полинялая, но зато все остальное, обрядовое, в совершенном порядке и надлежащей форменности.
— Ефрейтора! — закричал над нашим ухом часовой солдат, стоявший у наружной двери.
Явилось требуемое лицо. Наряжены были еще двое конвойных с ружьями и пущены вперед.
— Старосту! — закричал сзади нас в свою очередь ефрейтор.
Явился и староста, с бритою наполовину головою, с угодливостью в лице, с судорожными движениями во всем теле, как будто готовый лететь, растянуться в воздухе по первому призыву и приказу начальника.
Перед нами отворилась дверь, и, словно из погреба, в котором застоялась несколько лет вода и не было сделано отдушин, нас облила струя промозглого, спершегося, гнилого воздуха, теплого, правда, но едва выносимого для дыхания. Мы с трудом переводили последнее, с трудом могли опомниться и прийти в себя, чтобы видеть, как суетливо и торопливо соскочили с нар все закованные ноги и тотчас же, тут подле, вытянулись в струнку, руки по швам, по-солдатски. Многие были в заплатанных полушубках внакидку, на сколько успели; большая часть просто в рубашках, которые когда-то были белые, но теперь были грязны до невозможности. Мы все это видели, видели на этот раз большую казарму, в середине которой в два ряда положены были деревянные нары; те же нары обходили кругом, около стен казармы. Вид известный, неизбывный во всех местах, где держат людей для казенной надобности в артели, в ротах, в батальонах. На нарах валялись кое-какие лоскутья, рвань, тоненькие как блин матрацы, измызганные за долгий срок полушубки, и вся эта ничтожная, не имеющая никакой цены и достоинства собственность людей, лишенных доброго имени, лишенных той же собственности. Вопиющая, кричащая бедность и нагота кругом нас, бедность и несчастье, которые вдобавок еще замкнуты в гнилое жилище, окружены гнилым воздухом, дышат отравою его до цинги, ступают босыми ногами с жестких нар на грязный, холодный и мокрый пол. Нечистота пола превзошла всякое вероятие: на нем пальца на два (буквально) накипело какой-то зловонной слизи, по которой скользили наши ноги, не раз ходило сильное властью и средствами начальство и не замечало, а если и замечало — то, наверное, забыло. Половина смрада в казарме копилась на полу и наполнила потом всю ее до самого потолка, который также оказался неспособным отправлять свою трудную службу. Отворялись форточки, но не помогали делу нимало; топятся и уродливые огромные печи и оказываются бессильными. Вся сила спасения не в планочках, которые мы, не набалованные повадкой, охотно прибиваем ко всякому месту, которое сквозит, свистит и просвечивает, не в загрунтовке мест, которые проболели до того, что заразились гноем и сочатся гнилою, порченою кровью, вся сила — в коренной перетруске старого и в решительном создании нового. На прежнем месте, пожалуй, но свежая казарма должна быть во что бы то ни стало и притом не по старому образцу и не старыми балованными руками сделанная, а по образцам новым, руками не запачканными, но чистыми, не выверченными из вертлюгов на бесполезных работах, но здоровыми и сильными, которые зла не творили, а за добром давно тянутся и всякому живому гуманному движению давно уже распростерли горячие объятия.[26] Еще долго проживут каторжные в своих вонючих и сырых норах, пока и до них добежит луч света по казенным инстанциям, после множества бумажных справок и выправок.